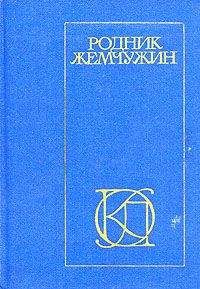Эдгар По - Собрание сочинений в четырех томах. Том 1
В достоверно историческом лике Эдгар По снова возникает перед нами осенью 1833-го года, как нищенски-голодный и божески-блистательный создатель изумительного рассказа «Манускрипт, найденный в бутылке», от которого не отказался бы ни гений Свифта, ни гений любого чтеца человеческих душ, и как создатель не менее страшного и глубинного рассказа «Нисхождение в Мальстрём». Здесь incipittragoedia, здесь исходная точка всей блестящей параболы, начало кометного пути Эдгара По, — и случилось это по следующему поводу.
Осенью 1833-го года издатели еженедельного литературного журнала «Saturday Visiter», «Субботний Гость», возникшего в Балтиморе за год перед этим и печатавшегося тогда Уильмером, предложили премию в сто долларов и в пятьдесят долларов за лучший рассказ и лучшую поэму, какие будут доставлены состязателями. Когда Эдгар По узнал об этом, он послал шесть имевшихся у него рассказов и стихотворение «Колизей». По тщательном рассмотрении присланного материала три весьма известных в свое время и в своем месте литературных джентльмена единогласно присудили обе премии неведомому тогда юноше, Эдгару По, но затем, несколько изменив решение, присудили премию за лучшую поэму другому, ввиду того, что одна премия Эдгару По была присуждена. Не удовлетворившись этим, судьи состязания напечатали 12-го октября 1833-го года следующую заметку в «Субботнем Госте»:
«Среди прозаических очерков некоторые отличались различными и отменными достоинствами, но совсем своеобразная сила и красота очерков, посланных автором «The Tales of the Folio Club», не оставляют никакой возможности для колебания в этой области. Согласно с этим, мы присудили премию за рассказ, называющийся «Ms. Found in a Bottle», «Манускрипт, найденный в бутылке». Вряд ли было бы справедливо по отношению к автору собрания этих рассказов сказать, что выбранный рассказ есть лучший из шести им предложенных. Мы не можем не сказать, что, как благодаря собственной репутации автора, так и во имя удовольствия общества, весь сборник рассказов долженствует быть опубликованным. Рассказы эти чрезвычайно выделяются необузданным сильным и поэтическим воображением, богатым слогом, изобильной изобретательностью и разнообразной и любопытной образованностью.
(Подписано) Джон П. Кеннэди,
Д. X. Б. Латроб,
ДжэмсX. Миллер».
Один из судей, Латроб, подробно рассказывает в своих воспоминаниях, как происходило присуждение премий. Он повествует, как одна рукопись за другой отправились в корзину, ибо одни произведения были обычным неприемлемым бредом, другие простым плагиатом; он рассказывает, как он, Латроб, будучи младшим из трех, читал рукописи вслух, и когда, пробежавши про себя первую страницу четкой рукописи того, кто оказался Эдгаром По, он сказал, что, кажется, есть наконец что-то похожее на достойное премии, остальные двое со смехом усомнились, и, усевшись поудобнее со своими сигарами в комфортабельных креслах, стали слушать. Не много нужно было прочесть, чтобы слушатели сделались заинтересованными. За первым рассказом последовал второй и третий, и так до конца, причем чтение прерывалось лишь такими возгласами, как «Превосходно!», «Первоклассно!», «Как странно!». «Во всем, что они слушали, — говорит Латроб, — был гений; тут не было неверной грамматики, ни слабого словосочетания, ни дурно поставленного знака препинания, ни изношенных общедоступностей, ни сильной мысли, впавшей в слабость. Логика и воображение сочетались в редкой соразмерности. Временами автор создавал в уме свой собственный мир и затем описывал его — мир, столь зачарованный, столь странный — и в то же время такой волшебно-четкий, что он казался в ту минуту имеющим всю правду действительности… Когда чтение кончилось, трудно было выбрать, что лучше. Снова были перечитаны отрывки из отдельных рассказов, и наконец, выбор остановился на «Манускрипте, найденном в бутылке». Один из рассказов назывался «Нисхождение в Мальстрём», и некоторое время он был предпочтен»…
Кеннэди, автор книги «Horse-Shoe Robinson» и других популярных книг, очень заинтересовался столь успешным, хотя неведомым состязателем и письмом пригласил его к себе в гости. Ответ Эдгара По, где лаконизм слов, исполненных полновесной значительности, занесен в его обычные, четко вписанные буквы, является одним из самых красноречивых, страстных в своей английской сдержанности, воплей человека в пустыне — и не человека в пустыне, а одинокого существа среди несчетного множества других существ, чужих, враждебных, и глядящих, и подглядывающих. Пользуясь словами Ингрэма, можно сказать, что немногие, вероятно, смогут вообразить, как сердце истекало кровью, когда перо писало эти слова:
«Ваше приглашение к обеду ранило меня остро. Я не могу прийти по причине самого унизительного свойства — мой внешний вид. Вы можете представить себе мое уничижение, когда я открываю вам это, но это необходимо».
Побуждаемый благороднейшими чувствами, Кеннэди отыскал юношу и, как он записал в своем дневнике, нашел его совсем одиноким и почти умирающим с голоду. Кеннэди навсегда остался искренним, бескорыстным и благожелательным другом Эдгара По. Он отнесся к нему в ту минуту жизни не как к чужому, хотя бы и любопытному, а как к родному, которого уважают и любят. В дневнике Кеннэди есть запись: «Я дал ему свободный доступ к моему столу и возможность пользоваться одной из моих лошадей для верховой езды, когда он пожелает; в действительности, я приподнял его с самого срыва отчаяния».
С этой минуты жизненный путь Эдгара По почти четко означился. Но собственный гений и одно чужое доброжелательное сердце очень недостаточны, чтобы бестрепетно идти по тропинкам, выложенным битым стеклом.
Латроб в тех «Воспоминаниях», из которых выдержки уже были приведены, подробно описывает свои впечатления от Эдгара По тех дней:
«…Я сидел за своим письменным столом в понедельник после опубликования рассказа «Манускрипт, найденный в бутылке», когда ко мне вошел какой-то джентльмен и рекомендовался как автор рассказа, говоря, что он пришел поблагодарить меня, как одного из членов Комитета, за оказанную ему честь. Воспоминание об этой встрече с мистером По, единственной в моей жизни, очень четко в моей памяти, и мне нужно сделать лишь небольшое усилие моего воображения, чтобы увидеть его сейчас перед собой так явственно, как если бы я видел кого-нибудь из окружающих. Он был скорее ниже среднего роста, и, однако, о нем нельзя было бы сказать, что он маленький человек. Общий вид его был чрезвычайно благолепный, и он держался прямо и хорошо, как тот, кто был приучен к этому. Он был одет в черное, и его сюртук был застегнут до самого горла, где он встречался с черным галстуком, какой носили в это время почти все. Не было заметно ни одной полоски белого. Верхнее платье, шляпа, сапоги и перчатки, очевидно, ведали лучшие свои дни, но что касается починки и чистки щеткой, видимо, все было сделано, чтобы они были представительными. На большинстве людей одежда имеет изношенный и жалкий вид, но вокруг этого человека было что-то, что возбраняло глядящему критиковать его одежду, и описанные подробности были припомнены лишь позднее. Впечатление, однако, было таково, что премия, назначенная мистеру По, не была некстати… Джентльмен было написано во всей его наружности. Его манеры были спокойны и уверенны, и, хотя он пришел поблагодарить за то, что он считал достойным благодарности, не было ничего приторно вежливого в том, что он говорил или делал. Черты его лица я не могу описать в подробности. У него был высокий лоб, замечательный своими большими выпуклостями на висках. Это было отличительное свойство его головы, вы замечали эту особенность сразу, и забыть ее я не мог бы никогда. Выражение лица его было серьезное, кроме тех минут, когда он увлекался разговором, тогда выражение его лица делалось оживленным и переменчивым. Его голос, я помню, был очень приятен по тону, он был выразительно-переливный, почти ритмический, и слова его были выбраны хорошо и без колебаний… Я спросил его, чем он занят, что он пишет. Он ответил, что занят Путешествием на Луну, и тотчас же вдался в несколько ученое рассуждение о законах тяготения, о высоте земной атмосферы и летательных способностях воздушных шаров, оживляясь по мере того, как речь его продолжалась. Вдруг, говоря от первого лица, он начал Путешествие: Описав предварительные приготовления, как их можно найти в одном из его рассказов, называющемся «Приключение некоего Ганса Пфоолля», он оставил землю и, делаясь все более и более воодушевленным, стал описывать свои ощущения, по мере того, как он восходил все выше и выше, пока, наконец, он не достиг той точки в пространстве, где притяжение Луны превозмогало над притяжением Земли, там происходила внезапная опрокинутость лодочки и великое смятение среди тех, кто в ней находился. К этому времени говоривший сделался столь возбужденным, говорил так быстро и так жестикулировал, что, когда перевернутость лодочки произошла, и он, для большей выразительности, хлопнул в ладони и топнул ногой, я был увлечен с ним в пространство и вполне мог бы вообразить, что я был спутником в его воздушном странствии. Когда он окончил свое описание, он извинился за свою возбудимость, над которой он посмеялся сам же. Разговор перешел на другие предметы, и он скоро простился со мной. Я более не видел его никогда… Что я слыхал о нем потом, опять и опять, и год за годом, наряду с теми другими, кто говорит по-английски, об этом упоминать бесполезно, — слышал о нем в выражениях хвалы иногда, иногда в выражениях осуждения, доныне, когда он ушел, оставя за собой славу, которая будет длиться, пока будет длиться наш язык, и я могу о нем думать только как об авторе, который дал миру «Ворона» и «Колокола», и много еще других жемчужин благородного стиха, озарил эту мощь английской речи в прозаических сочинениях, не менее логических, чем вообразительных, и я забываю злоупотребление, которое с основанием или без основания невежество, предрассудок или зависть нагромоздили на его памяти».