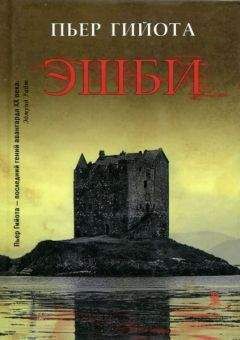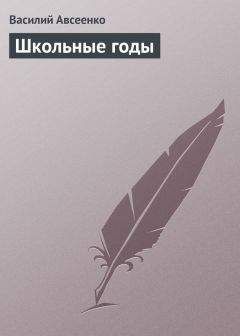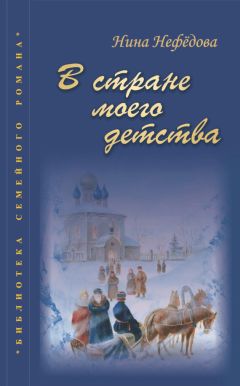Дмитрий Дашков - Поэты 1820–1830-х годов. Том 1
А. А. КРЫЛОВ
Александр Абрамович Крылов родился в 1793 году[140] в семье помещика Олонецкой губернии. Получив первоначальное образование в Олонецкой губернской гимназии, он в 1813 году поступил в Санктпетербургский педагогический институт, а в 1819 году, по окончании курса, был определен надзирателем в Санктпетербургское училище глухонемых. В это время начинается и его литературная деятельность. С февраля 1817 года он член Общества любителей российской словесности и печатает в «Соревнователе» свои переводы из Вольтера и Делиля и подражания Оссиану («Оскар и Дермид», 1818; «Минвана», 1819). Крылов ориентируется также на французскую элегическую поэзию XVIII века, с характерными чертами преромантизма (Мильвуа, Парни). В 1820 году он увольняется «по прошению» из училища и уезжает в свое имение Кулибино под Тихвином. В январе 1821 года, «по выбору дворянства», он становится почетным смотрителем Тихвинского училища. В 1820–1822 годах его поэтическая деятельность наиболее интенсивна. Он пишет несколько любовных элегий (в том числе лучшую из них — «Недоверчивость», 1821), упрочивших в литературных кругах его репутацию талантливого элегика. Несмотря на лестные отзывы современников, элегии Крылова не были новым словом в поэзии 1820-х годов; однако они способствовали выработке и нормализации стиля традиционной «унылой элегии», культивируя лаконизм, рационалистическую ясность и эмоциональную сдержанность, которые воспринимались критикой как особое присущее Крылову «мужество языка». В Обществе любителей российской словесности (где он был «цензором стихов») Крылов поддерживает «левую», антикаразинскую группу, разделяя декларации «высокой поэзии», провозглашенные Дельвигом («Поэт») и Кюхельбекером («Поэты»). Утверждением общественного назначения и непреходящей ценности поэзии было его послание «К К<юхельбекер>у» (1821)[141]. Вместе с тем он осуждающе смотрит на гедонистическую поэзию Дельвига и Баратынского и в мае 1821 года выступает в Вольном обществе любителей словесности, наук и художеств с резким памфлетным стихотворением «Вакхические поэты», направленным против своих бывших друзей. Эта демонстративная ориентация Крылова на группу А. Е. Измайлова вызвала резко иронический ответ Баратынского «К-ву. Ответ» (1821?). Полемика на этом закончилась. В ближайшие два года Крылов вообще отходит от поэтической деятельности, занятый, по-видимому, семейными делами (к этому времени относится его женитьба). В январе 1824 года он возобновляет свои отношения с «михайловским» обществом. В 1825 году П. А. Плетнев напомнил читателям о Крылове в «Северных цветах»; он же, по-видимому, и напечатал несколько его антологических стихотворений, принятых современниками благожелательно. В эти годы Крылов много читает, осваивает итальянский язык, готовясь переводить итальянских поэтов, усиленно интересуется Вальтером Скоттом и задумывает роман с изображением нравов провинциальной Руси XVII века. Он сближается с кружком тихвинской интеллигенции, собиравшимся вокруг А. П. Римского-Корсакова (отца композитора), отличавшимся литературными интересами и не чуждым политического вольномыслия. Зимой 1828–1829 года Крылов тяжело заболевает; результатом болезни были психическое расстройство и слепота. 14 июля 1829 года Крылов скончался в своем имении под Тихвином.
122. К К<ЮХЕЛЬБЕКЕР>У
Не часто ль ты в мечтах, задумчивый Певец,
Отбросив тленный мирт веселья и забавы,
Как будто наяву берешь от муз венец
И в торжестве паришь ко храму славы?
Доколе игом лет не подавле́н твой дар
И ласковы к тебе неверные мечтанья,
Питай, мой друг, питай священный к славе жар;
Ей посвяти все мысли, все желанья!
Счастлив, кому она достанется в удел,
Счастлив, кто обречен каменам от рожденья!
Едва он начал жить, едва на мир воззрел,
Уже горит в нем пламень вдохновенья.
Услышит ли в полях свирели звук простой
Иль песни соловья, иль дальные перуны —
Младенец, лиру взяв неопытной рукой,
С улыбкою перебирает струны!
В дни пылкой юности, привязанной к мечтам,
В забавах сверстников ему ли брать участье?
Призывный славы глас влечет его к трудам,
И подле них Поэт встречает счастье.
Он в будущем живет: на крыльях легких дум
Летит в тот край, где ждут его бессмертных тени;
Во сне внимает он рукоплесканий шум
И похвалы грядущих поколений!
Волшебный глас его пленяет всех сердца;
То ручейком журчит, то громом поражает.
Пусть зависти змия шипит у ног Певца —
Он звуком струн шипенье заглушает!
И слушают его сыны чужих племен!
Поэт с народов дань сбирает удивленья,
К потомству дальнему идет сквозь мрак времен,
И не грозит ему река забвенья!
Но если смерть Певца безвременно сразит
И на младом челе незрелый лавр увянет,
Ужель гроб юноши никто не посетит?
Ужель над ним ничья слеза не канет?
Нет! нет! во всех устах любимцу муз хвала;
Во всех сердцах живет о нем воспоминанье
Так на лугу весной, где роза отцвела,
Разносится ее благоуханье!
123. РАЗЛУКА
На жалобы мои, казалось, отвечали
И камни дикие, и быстрых вод струи;
И преклонялся лес, исполненный печали,
На жалобы мои.
Внимало всё любви моей стенаньям,
Но хладная Судьба не хочет им внимать!
Дождусь ли я конца моим страданьям,
И долго ль мне еще прелестной не видать?..
В разлуке с ней, терзаемый тоскою,
Брожу один средь рощей и полей,
Где осень бледная губительной рукою
Оборвала листы поблекшие с ветвей,
Где всё в унынии, где всё душе моей
О милой говорит и грусть об ней питает.
Ей каждый вздох, ей каждая слеза!
И к той стране, где друг бесценный обитает,
Обращены всегда мои глаза!
Взойдет ли день — лечу душою к милой
И, взоры устремив сквозь утренний туман,
В безмолвии стою, как истукан,
Воздвигнутый над хладною могилой!
Настанет ночь — покой меня бежит
И в грудь не льет спасительной отрады,
Но всё является глазам любезный вид
При свете гаснущей лампады.
Когда же поздний Сон подкрадется ко мне,
Чтоб усладить на миг тоску разлуки,
О милой я мечтаю и во сне:
Я слышу голоса пленительного звуки
И поступь легкую в полночной тишине;
Мечтой свиданья обольщенный,
Слезами радости Судьбу благодарю,
Сквозь сон произношу я имя незабвенной
И с милым призраком в восторге говорю.
Но скоро прочь летят волшебные мечтанья.
Опять я с новым днем к печали пробужден,
И редко слышится мне голос упованья,
Что сбудется прелестный сон!
124. ВАКХИЧЕСКИЕ ПОЭТЫ
(К А. Е. Измайлову)
Невольной страстью увлеченный,
Я должен, я хочу писать!
Скажи, любимец муз почтенный,
Какой мне род стихов избрать,
Чтоб славы истинной дождаться?
Я не привык от юных лет
В стихах и в свете притворяться:
Мне пить вино охоты нет,
А без вина какой поэт
Теперь за лиру может взяться?
Пускай завистники кричат,
Что музы не должны быть пьяны, —
У нас теперь в стихах звучат
Так громко рифмы и стаканы,
Что крики злобы заглушат!
В том дарованья нет приметы,
Кто недруг чаше круговой;
Все наши модные поэты
В ней потопляют гений свой;
Забыв уставы Аполлона,
Они в вине лишь знают вкус,
И Вакх с вершины Геликона
Грозит согнать несчастных муз!
Но я досель на лире скромной
Вина еще не воспевал;
Итак, могу ли ждать похвал?
Я ввек пойду стезею темной,
Вдали от счастливых певцов;
Я никогда не буду с ними
Среди мечтательных пиров
Стучать бокалами пустыми!
Но что ж!.. к чему напрасный вздох?
Уже Парнасса грозный бог,
Исполненный негодованья
На дерзостных жрецов своих,
Сказал: «Да будут их посланья
Так сухи, как бокалы их!»
И страшный приговор свершился!
Не внемлют музы их мольбам;
Пред ними с шумом затворился
Бессмертия высокий храм!
Пускай трудя́тся: их творенья
Читателей обнимут сном,
И поглотит река забвенья
Венец, обрызганный вином!
125. ИСТРЕБЛЕННАЯ РОЩА