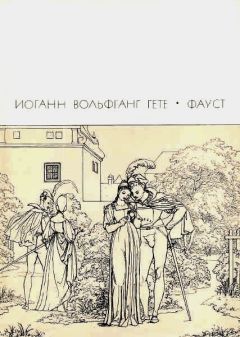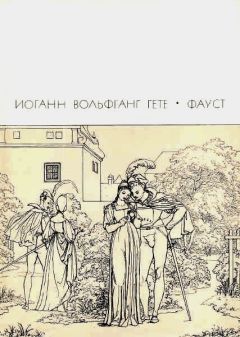Велимир Хлебников - Том 3. Поэмы 1905-1922
Речь судреца:
Всего ужасней одинокий,
Кто черен, хил и гноен,
Он спит, но дух глубокий
В нем рвется неспокоен.
Бессильный видит вечно битвы,
Он ждет низринуть королей,
Избрал он царства для ловитвы,
Он – чем смелее, тем больней.
И если небо упадет
И храм сожженный просверкает,
Вчерашний раб народы поведет,
Ведь силен тот, кого не знают!
Вот я изрек премудрость ада,
За что и сяду ко всем задом.
. . . . . . . . . . . . . . .
Счастливец проснулся, смекнул,
Свое добро взвалил на плечи
И тихим шагом отшагнул
Домой, долой от сечи.
И умиленно и стыдливо
За ним пошла робка и та,
Руки коснувшись боязливо,
И стала жарче, чем мечта.
«Служанке грязною работой,
Скажи, какой должна помочь?
Царица я! копьем охоты
Именам знатным кину: прочь!
Сошла я в подземные недра,
Земные остались сыны,
Дороги пестрила я щедро:
Листами славными красны.
Ты самый умный, некрасивый,
Лежишь на рубище в пыли,
И я сойду тропой спесивой
Твои поправить костыли.
Тебя искала я давно,
Прошла и долы и моря,
Села оставила гумно,
Улыбок веники соря.
Твой гроб живой я избрала,
И в мертвом лике вижу жуть,
В борьбе с собой изнемогла –
К тебе моя уж настежь грудь.
Спесь прежних лет моих смирится
Даю венок,
Твоя шершавая десница –
Паду, великая, у ног.
О, если ринешься с высот
Иль из ущелий мрачных взмоешь
Равно вонзаешь в сердце дрот
И новой раной беспокоишь!»
Отверженный всегда спасен,
Хоть пятна рдеют торопливо,
Побродит он –
И лучшее даст пиво…
Как угля снег сияло око –
К блуднице ластилися звери,
Как бы покорны воле рока,
Ей, продавщице ласки, веря.
И вырван у множества вздох:
«Кто сей, беззаботный красам?»
И путь уж ему недалек,
И знак на плечах его: Сам!
Тщедушный задрожал за злато
И, вынув горсть червонцев,
Швырнул красавице богато –
Ах, на дороге блещет солнце!
Та покраснела от удара,
Руками тонкими взметнула
И, задыхаясь от пожара,
В котел головою нырнула.
Дворняжкой желтой прянул волос,
Вихри оград слезой погасли,
И с медью дева не боролась,
Махнув косой в шипящем масле.
Судьба ее вам непонятна?
Она пошла, дабы сгореть,
Высоко, пошло и бесплатно –
Крыс голубых та жертва снедь…
И заворчал пороков клад,
К смоле, как стриж, вспорхнув мгновенно.
Вот выловлен наряд,
Но тела нет, а есть лишь пена!
Забыть ее, конечно, можно,
Недолог миг, короче грусть,
Одно тут непреложно:
И стол вовек не будет пуст.
Игра пошла скорей, нелепей,
Шум, визг и восклицанья,
Последние рвутся скрепы
И час не тот, ушло молчанье!
Тысячи тысяч земного червонца
Стесняют места игроков –
Вотще, вотще труды у солнца –
Вам места нет среди оков!
Брови и роги стерты от носки,
Зиждя собой мостовую,
Где с ношей брюхатой повозки
Пыль подымают живую.
Мычит на казни осужденный:
«Да здравствует сей стол!
За троны вящие вселенной
Тебя не отдам, нищ и гол!
Меня на славе тащут вверх,
Народы ноги давят,
Благословлю впервые всех,
Не все же мне лукавят!»
Порок летит в сердцах на сына,
Голубя слаще кости ломаются!
Любезное блюдо зубовного тына
Метель над желудком склоняется…
А наверху, под плотной крышей,
Как воробей в пуху, лежит один.
Свист, крики, плач чуть слышны,
Им внемлет, дремля, властелин.
Он спит – сам князь (под кровлей).
Когда же и поспать?
В железных лапах крикнут <кролики>,
Их стон баюкает, как мать…
И стены сжалися, тускнея,
Где смотрит зорко глубина,
Вот притаились веки змея,
И веет смерти тишина.
Сколько легло богачей,
Сколько пустых кошельков,
Трясущихся пестрых ногтей,
Скорби и пытки следов!..
И скука, тяжко нависая,
Глаза разрежет до конца.
Все мечут банк и, загибая,
Забыли путь ловца.
И лишь томит одно виденье
Первоначальных светлых дней,
Но строги каменные звенья,
Обман – мечтания о ней.
И те мечты не обезгрешат,
Они тоскливей, чем игра.
Больного ль призраки утешат?
Жильцу могилы ждать добра?
Промчатся годы – карты те же,
И та же злата желтизна,
Сверкает день все реже, реже,
Печаль игры, как смерть, сильна!
Тут под давленьем двух миров
Как в пыль не обратиться?
Как сохранить свой взгляд суров,
Где тихо вьется небылица?
От бесконечности мельканья
Туманит, горло всем свело,
Из уст клубится смрадно пламя,
И зданье трещину дало.
К безумью близок каждый час,
В глаза направлено бревно.
Вот треск и грома глас.
Игра, обвал – им все равно!
. . . . . . . . . . . . . . .
Все скука угнетает…
И грешникам смешно…
Огонь без пищи угасает
И занавешено окно…
И там в стекло снаружи
Все вьется старое лицо,
Крылом серебряные мужи
Овеют двери и кольцо.
Они дотронутся, промчатся,
Стеная жалобно о тех,
Кого родили… дети счастья
Все замолить стремятся грех…
1912, 1914
Бунт <прокаженных>*
В стране осок и незабудок
Еще не водка, а вода,
Не пламень жаркий для желудка…
Орали: – «Воины, сюда!
Сюда, лягушки из болота,
Покиньте сочные сокровища,
И зная, что издохнет кто-то,
Плещите грудью на чудовище!
За честь глазастой водной дщери,
С ее серебряным брюшком,
Бросайтесь, рвитесь, точно звери,
С мечом воюя босиком!
Ведь весна и нет мороза,
Сумасшедший месит сласти,
Но колеса паровоза
Сокрушают наше счастье.
Мы дети веселой долины,
Она отдана нам в надел,
Мы воссставшие скотины
Против грузных манных тел!».
И лишь багровое пятно
С зловещим шумом придвигалось,
Толпой лягушек полотно
Спокойной песней окружалось.
– «Храбрец, богатырь или витязь,
Спасайте лягушечью честь,
Снова ложитесь, ложитесь,
Чтоб было, что ворону есть!»
И гибли младые лягушки
Под рукопожатьем колес,
А паровоз жесточе пушки
Свои мозоли дальше нес.
Его успехи обеспечены,
А жабья что ему слеза?
Они торчали искалечены,
И знамя срезала коса!
Они ложились, точно воины,
Ничком поверх свистящих нитей.
Колеса кровью успокоены,
Резвей летели волчьих сытей.
Певцы болот лежали глупы,
Черту зрачка в себя тараща,
Зеленые, слизкие трупы –
Их множество, гибель, зеленая чаща
Как Гете в голубом,
Качая французскою ляжкой,
Лежали лягушки… но, о другом
Мечтая, мчится поезд тяжкий…
Песнь колес паровоза
«Сеном каменным нас топит
Рукой мрачной кочегар,
То замедлит, то торопит
Лёт летящих в скачку пар.
Мы, непослушные ему,
Опрокинем и чуму,
И рабочего куму,
С нею вместе войска тьму.
Чу! Мычит корова – м-му!
Перережем пополам,
И урок дадим уму,
И покатим через гам…
Избран кто толпы разбоем,
Тот идет рыкая зычно,
И ничтожной своры воям
Не заказан путь привычный!».
Сторож, палкою швыряя,
Путь поутру обходил
И, глазам не доверяя,
Жаб усопших находил.
Пусть лягушка ты раздавлена
Колес бегом табуна –
Трупом снова окровавлена
И прославлена Жена!
О, узкомордые самцы,
Прозрачен, тих озерный замок
<И как> мученику венцы –
Уста могучих счастьем самок.
Прошли часы. Лягушки пали
Под тяжким чугуна лобзаньем.
В снега потом их закопали,
А я <тех жаб> почтил сказаньем.
И, седым покрытый дымом,
Мчится дальше паровоз…
И поет про них: «Не имам».
В слезах родина стрекоз.
Но в те поля, снегов богатство,
Кого забросила судьба?
Свободу, рядом с нею – братство,
Не приютила ль там изба?
Какие гордые указы
Отсель долины людям шлют?
Увы, увы! Больных проказой
Клоповник гордый и уют.
Здесь в зыбке дней проказа,
Указка гибели большого,
Сквозной бессилен светский разум
Сиять стеклом в глазу крутого.
И те, кто были здоровее,
Грозили им как длань закона,
Но дух чумы, на стражу вея,
Дышать заставил мухой сонной.
Плеть судьбы грозила гадко
Хлыстом стаду униженных,
Но на поезда площадке
Смотрят лица прокаженных.
С печалью хитрой на устах,
В больничных скрытые холстах,
Они бежали торопясь,
Где страшный врач – их враг и глаз.
Чаго – надорвана щека,
У Куда рот – распухший ящик,
Та – слизи черный ком рука,
Кудабиль – в рубище болячек.
Тот засмеется и в час смерти,
А этот вечно, вечно хнычет,
Гнилая челюсть, праха жерди,
Торчали сквозь провала вычет.
Покрыта зеленью скакала,
Жуя свой хлеб, та челюсть нижняя,
А та щека навек искала,
Где в жмурках ухо ее ближнее…
Он навсегда вопит: «ура!»,
Нарывно блещут десна,
В щеке – мышиная нора,
Их дни, их речи – чумноносны.
Да, вы, товарищи и братья,
Себя зовите смело «мы»,
Дыханье грозно, выше платья
Наводит ужас на холмы.
И вы вольны упасть в ущелье –
Тут всех сравнял запрет побега,
И ангел, стоя над постелью,
Зияет черной коркой снега…
…просили молча молочка
И права к ближним писем,
Внутри воротничка
Ходить в солопе лисьем.
И долго лились жалобы
О шляпках и о ботиках,
И тут иная обнимала бы
Не будь тех правил дротиков.
И были скверны и убоги
Желанья их,
Вот язвами нагие ноги
Обвеял ветер, после стих…
К ним на плечи села грязь…
На площадке приютясь,
Самый задний, самый видный
Хохот слышит он обидный:
«Все умре<м и> все протухнем,
Эй, дубинушка, ухнем!..»
Слез потоком этот вымок:
Нет громады, есть лишь пух,
Все исчезнет сетью дымок:
И слава и войны двух мух.
Довольно нам в тебя играть –
Покрылись слюнями секиры,
<Повернем скорее> вспять,
<Обманем струнами> кумиры.
Черным трупом здоровяк
Скоро, скоро в яму рухнет,
И о камень камень бряк –
Все умрем и все протухнем.
И дрожали телеса:
Не люди мы разве?
А над ними небеса
Тоже в черной язве…
И поезд несется,
И поезд трясется,
Проводник не обернется,
Тот умрет кто их коснется…
<1913–1914>