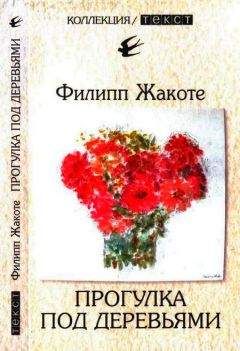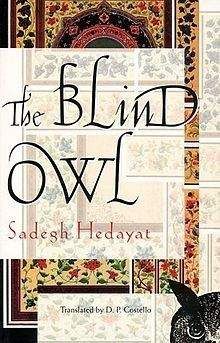Наум Коржавин - На скосе века
Конец века
ВступлениеМы живём на земле —
нераздельной,
усталой,
израненной.
Друг от друга страдая,
нуждаясь хоть в капле тепла.
Я пишу не затем, чтоб свести
свои счёты с Германией
И найти в ней причину
всемирного
вечного зла.
Всепрощение?
Нет.
Это слишком ещё не история.
Это свежая рана,
что в душах поныне жива,
В лагерях ещё целы
развалины крематориев,
В Бабьем Яре
густая и жирная
всходит трава.
Утешайся!
Не мы это — немцы.
Минутку внимания!
Это так,
только тут не отделаться
прозвищем «фриц»!
Это было с такими, как мы,
рядом с нами,
в Германии,
Здесь,
на круглой планете,
где нету природных границ.
Это всё — наша жизнь,
где корысть
прикрывают величием.
Где все нации спорят:
земля не твоя,
а моя.
Да опомнитесь, люди!
Что значат
все ваши различия
Перед общим различием
жизни и небытия!
На восставший Париж
наступают войска из Версаля.
Коммунары дерутся,
но только их мало в строю…
Вот стихает пальба.
Баррикады последние пали.
Девятнадцатый век
погружается в старость свою…
Свирепеют суды.
Что ж!
Парламент одобрит расстрелы.
Рукоплещет — республика!
Всё теперь начистоту.
Девятнадцатый век
ощущает развитью пределы
И стреляет по тем,
кто посмел перейти за черту…
Но прийти в равновесие
вскорости всё обещает.
Равновесие это
он больше не даст разболтать.
Девятнадцатый век
с голубыми мечтами кончает…
Он достиг своего.
Он о большем не хочет мечтать.
Да, парламент и хартии —
к этому люди привыкли.
И границы сословий —
от них уже нет ничего…
Век достиг своего.
Почему ж своего не достигли
Те, кто двигал его,
защищал баррикады его?
Все названия лгут.
И мечты не найдут примененья.
Почему ж это так?
Где ж тернистый закончится
путь?
Или вправду история
сводится вся
к уравненью,
Где меняется вид,
но вовек не меняется суть?
Век мечтал об одном.
Получилось, как видно, другое.
Но, не глядя на то,
утопая в уютном житье,
Девятнадцатый век
одного только хочет —
покоя,
И глядит сквозь очки,
сидя в кресле,
как добрый рантье…
Любит он справедливость.
Но только не в натиске бурном.
И сочувствует бедным.
Но всё-таки счастлив вполне…
И ему представляется мир
аккуратным,
культурным,
А природа прирученной —
в людях самих и вовне…
Словно это не в жизни,
а так,
в идиллической пьесе:
Все дороги — аллеи,
иных не бывает путей…
И рождается сказка
о добром
приличном Прогрессе —
О присяжном слуге
и заботливом друге людей.
Всюду правит Прогресс.
Все живут и разумно, и чисто.
Как наука велит,
удобрения вносятся в грунт…
Только бомбы зачем-то
швыряют в царей нигилисты.
Ну да это в России.
Там вечно холера иль бунт.
Там парламента нет.
И пока что вводить его рано.
Азиатский народ…
Но настанут когда-нибудь дни —
И прогресс просвещенья
захватит и дикие страны,
И приятною жизнью
тогда заживут и они…
Так освоенный мир
улыбается нежно и мило.
Только время идёт.
И в какие очки ни смотри,
Девятнадцатый век
оттесняют свирепые силы
И, ещё не раскрытые,
точат его изнутри…
Ещё сладкий дурман
обвевает мозги человека
Только страсти —
живут.
В них судьба.
И её не унять.
И жестокие правды
другого —
двадцатого века
Проступают уже —
хоть никто их не может понять…
Ну не так чтоб никто —
разговоры про крах неминучий
Входят в быт всё упорней,
но как ни ораторствуй тут,
Всё же трудно представить,
какие
сбираются
тучи
Над цветущей Европой,
где творчество,
право
и труд.
Как ещё уважается мысль,
воплощённая в слове…
Что бы ни было в ней,
это «чистая область ума».
Словно наше мышленье
не связано
с голосом крови,
Словно в нём притаиться не может
звериность и тьма…
Век свободы настал.
Будь свободным
и в области быта.
Будь свободен во всём!..
(Дым!
А вдруг от него
угоришь?..)
Доктор Фауст с любовницей
ездит на воды открыто,
Маргариту любовник
на месяц увозит в Париж.
Но от этих измен
вдруг не вспыхнут кровавые войны,
Честь ничья не задета…
(при чём тут и что это — честь?).
Это очень полезно,
разумно
и благопристойно.
В этом есть просвещённость
и вместе естественность есть.
Это — значит свобода.
(А может, тоска без исхода?)
Это точные знанья.
(Гормоны бунтуют в крови.)
Это дух исчезает
и рушатся связи —
свобода!
А искусство уходит
от смысла,
от форм,
от любви…
Только правда мгновенья.
Всё стало доступно и просто…
Лишь дежурной улыбкой
глазам отвечают глаза.
Только женщину вскрыли
жрецы полового вопроса.
Только женственность сводят,
как сводят в Карпатах леса.
Чтоб когда эта призрачность
всё же откроется чувству,
А устроенность жизни
исчезнет в короткой борьбе,
Чтоб нигде и ни в чём:
ни в семье,
ни в любви,
ни в искусстве —
Человек не нашёл ни себя,
ни покоя себе.
А пока что Прогресс.
Всё, что с ним, —
человечно и свято.
Все идеи — в почёте…
И — тоже идеям
верны,
Напрягая умы,
колесят по земле дипломаты…
Самым чутким ушам
уже слышится смех сатаны.
Он смеётся не зря.
Мы теперь это знаем, к несчастью.
Дурь настолько окрепнет,
что разум предаст человек,
Выражаться научно
научатся тёмные страсти…
Но об этом не знает ещё
девятнадцатый век.
Он уверен в себе.
Добродушно встречает он годы,
Всем желая успеха
и в трубы Прогресса трубя…
Добрый толстый рантье,
приручивший стихии природы!
Что ты знаешь о них?
Ещё меньше ты знаешь —
себя.
Всё о мёртвой воде.
А нельзя ли
про воду живую?
Не у всех ведь душа
умиленья и страха
полна.
Социал-демократия
в ритме другом
существует,
Ибо поступь истории
чувствует только она.
Есть научное зренье.
Его ей ничто не затмило.
Будет братство рабочих,
придёт,
нищету истребя…
А терзания духа —
агония старого мира.
Пессимизм — это он.
Это он,
как он видит себя.
Он уверен, что близится хаос…
Но ей-то понятно,
Что не хаоса —
творческой бури
слышны голоса.
Да! Ему это страшно.
Но ей это
только приятно —
Это ветер истории
дует в её паруса.
Но довольство вползает
в квартиры рабочих,
как мебель.
И во многих квартирах
в почётном углу на стене
Два портрета висят.
Оба «унзере»[11].
Кайзер унд Бебель.
Друг на друга глядят
и скучают вдвоём в тишине.
Что ж!
Забавная глупость.
К ним буря ещё подберётся.
Но терпенье!
К нему
непрерывно взывают вожди.
Чем не райская жизнь?
Верить в цель…
рваться к цели…
бороться…
А последний рывок
ощущать далеко впереди.
Мирно движется век.
Происходят в рейхстаге дебаты,
Уясняются истины,
жить без которых нельзя.
И на месте законном
шумят
социал-демократы,
Возраженья внося
и гармонию тоже внося…
…Это — времени дух.
Всё культурно.
Пока —
нетревожно…
Где им взяться,
тревогам?
Устойчиво чист небосвод…
Младший Либкнехт пугает войной.
Но война —
невозможна.
Как теперь воевать,
если есть на земле пулемёт?!
Дипломаты скандалят.
Но вряд ли им хочется драться.
Это бред.
А найдутся безумцы —
и то не беда.
Социал-демократия —
воля рабочего братства —
По природе своей
не допустит войны
никогда.
Это вера и смысл.
И по-прежнему лозунги
броски.
Но взрослеют вожди,
и глаза им не застит туман.
Понимает всё явственней
нужды империи Носке.
Государственный такт
проявляет Филипп Шейдеман.
Это страсти кипят.
Незаметней они,
и исконней,
И хитрей, чем идеи…
Да, братство!
Конечно!
Но всё ж —
Надо честно сказать —
у Германии мало колоний.
По своей доброте
опоздала она на делёж.
Доброта — это слабость немецкая.
Сколько — о Боже, —
Неудач,
поражений,
стыда
натерпелись мы с ней…
Между прочим,
рабочим
колонии выгодны тоже:
Чем беднее страна,
тем живут они тоже бедней.
Это стыдные мысли:
всемирно рабочее дело.
Но такой нынче воздух —
попробуй прожить не дыша…
Нет! Идеи всё те же.
Лишь помнить о них надоело,
Словно жаждет разминки
забредшая в дебри душа.
Словно хочется мыслить, как люди,
уйти из-под власти
Схем всеобщего счастья.
Упиться полётом минут.
Нет! Идеи на месте…
Но ими не заняты страсти —
Страсти жаждут свободы,
и жвачку они не жуют.
Страсти жаждут свободы
и мысль побеждают упрямо.
Пусть устои трещат,
но страшнее
банальность судьбы.
Бога нет —
и пускай.
Раздеваются весело дамы.
Футуристы вопят,
и кубисты рисуют кубы.
Это «Я» проявляется.
«Я» без границы и цели.
«Я» без формы и смысла.
Какое и в чём —
всё равно.
Нету взлёта — в паденье.
Любовь не даётся —
в борделе.
В воровстве и в художестве
выхода ищет оно.
Жажда творчества…
Творчество…
Творчества! —
всем его мало.
Будет битва за творчество —
так этой жаждой полны…
Всюду творческий дух…
Чутко дремлют в штабах генералы
И, скучая без творчества,
ждут объявленья войны…
Только ждать им недолго…
Обиды всё гуще теснятся…
Есть ещё осторожность,
но страсти плотину прорвут…
И тогда отдадут
все орудья
обиженных наций —
Человеческой глупости
четырёхлетний салют.
И тогда заорут.
И возникнут орущие братства:
На Берлин!
На Париж!
В освежающий гром канонад…
Кто оратор — спроси.
Всё смешалось.
Нельзя разобраться.
Декадент?
Монархист?
Либерал?
Социал-демократ?
Все уставшие «Я» успокоились.
Все — патриоты.
Сметены тупики.
Жизнь ясна,
и природа ясна.
Необъятные личности
жаждут построиться в роты…
Кто оратор? — спроси.
Всё равно.
Ни к чему имена.
Он из братства орущих,
готовых под пули по знаку,
Он в толпе растворён.
Но на время.
В назначенный срок
Пред таким же, как он,
человеком,
идущим в атаку,
Перед смертью своей
он окажется вновь
одинок.
Будет воздух синей, чем всегда,
будет небо бездонней,
И, покуда совсем для него
этот свет не погас,
Будет глупо звучать:
«У Германии мало колоний».
И нелепо звучать —
«Незажившая рана — Эльзас».
……………………………………………………..………………………
Век культуры идёт.
Век свободы и доброго света.
Власть гуманных идей,
о которой мечтали давно.
И рантье надевает очки.
Он читает газету.
«Фигаро» или «Форвертс» читает.
Не всё ли равно?
Наивность