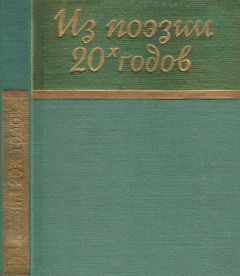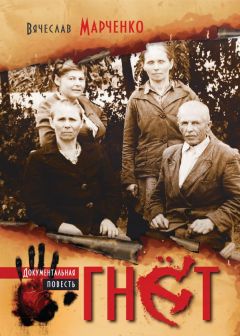Борис Пастернак - Лирика 30-х годов
Мальчики играют на горе
Мальчики заводят на горе
Древние мальчишеские игры.
В лебеде, в полынном серебре
Блещут зноем маленькие икры.
От заката, моря и весны
Золотой туман ползет по склонам.
Опустись, туман, приляг, усни
На холме широком и зеленом.
Белым, розовым цветут сады,
Ходят птицы с черными носами.
От великой штилевой воды
Пахнет холодком и парусами.
Всюду ровный, непонятный свет,
Облака спустились и застыли.
Стало сниться мне, что смерти нет, —
Умерла она, лежит в могиле.
И по всей земле идет весна,
Охватив моря, сдвигая горы,
И теперь вселенная полна
Мужества и ясного простора.
Мальчики играют на горе
Чистою весеннею порою.
И над ними,
в облаках,
в заре,
Кружится орел —
собрат героя.
Мальчики играют в легкой мгле,
Сотни тысяч лет они играют:
Умирали царства на земле.
Детство никогда не умирает.
Николай Тихонов
Старый ковер
Читай ковер: верблюжьих ног тростины,
Печальных юрт печати и набег,
Как будто видишь всадников пустыни
И шашки их в таинственной резьбе.
Прими ковер за песню, и тотчас же
Густая шерсть тягуче зазвенит,
И нить шелков струной скользнувшей ляжет,
Как бубенец, скользнувший вдоль ступни.
Но разгадай весь заговор узора,
Расшитых рифм кочевничью кайму,
Игру метафор, быструю, как порох,
Закон стиха совсем не чужд ему.
Но мастер скуп, он бережет сравненья,
Он явно болен страхом пустоты,
И этот стих без воздуха, без тени
Он залил жаром ярким и густым.
Он повторялся в собственном размахе,
Ковру Теке он ямбы подарил,
В узоры Мерва бросил амфибрахий,
Кизыл-Аяк хореем населил.
Так он играл в своем пастушьем платье
Огнем и шерстью, битвой ремесла,
И зарево тех красочных объятий
Душа ковра пожаром донесла.
Гомборы
Маро Шаниашвили
Я не изгнанник, не влекомый
Чужую радость перенесть,
Мне в этом крае все знакомо,
Как будто я родился здесь.
И все ж с гомборского разгона,
Когда в закате перевал,
Такой неистово зеленой
Тебя, Кахетия, не знал.
Как в плеске, полные прохлады,
Я погружался в речь твою,
Грузино-русских строк отряды
В примерном встретились бою.
Но где найдется чувству мера,
Когда встает перед тобой
Волной вселенского размера
Лесов немеркнущий прибой?
И в этот миг, совсем не сотый,
Когда ты в жизни жил не зря,
Сроднив и спутав все высоты,
Почти о счастье говоря,
Ты ищешь в прошлом с легкой дрожью:
Явись опять зеленый зной, —
Год двадцать первый встал и ожил
Над мамиссонской крутизной.
О, сколько слез и сколько жалоб
На старом Грузии пути,
Ночь меньшевистская бежала,
К Батуму крылья обратив.
Рвать крылья эти, что клубили
Одну из самых черных вьюг,
Бригада в искрах снежной пыли
Проходит с севера на юг.
Тобою, Киров, как знамена,
Снега Осетии зажглись,
Когда, не спешась, эскадроны
Переходили в них на рысь.
Снега, снега — зима нагая,
И вот уже ни стать, ни лечь,
Рубить, в снегах изнемогая,
Ходы, что всаднику до плеч.
Переносить вьюки плечами,
Уметь согреться без огней,
Со льдов, увенчанных молчаньем,
На бурках скатывать коней.
Хватив зимы до обалденья,
В победоносный дуть кулак
И прямо врезаться в виденье,
Неповторимое никак, —
И в этот миг, совсем не сотый,
Когда ты в жизни жил не зря,
Сроднив и спутав все высоты,
Почти о счастье говоря, —
Они смотрели и стояли,
Снимали иней на усах,
Под ними прямо в небесах
Великой зеленью пылали
Чанчахи вольные леса.
Цинандали
Я прошел над Алазанью,
Над причудливой водой,
Над седою, как сказанье,
И, как песня, молодой,
Уж совхозом Цинандали
Шла осенняя пора,
Надо мною пролетали
Птицы темного пера.
Предо мною, у пучины
Виноградарственных рек,
Мастера людей учили,
Чтоб был весел человек.
И струился ток задорный,
Все печали погребал:
Красный, синий, желтый, черный, —
По знакомым погребам.
Но сквозь буйные дороги,
Сквозь ночную тишину,
Я на дне стаканов многих
Видел женщину одну.
Я входил в лесов раздолье
И в красоты нежных, скал,
Но раздумья крупной солью
Я веселье посыпал.
Потому, что веселиться
Мог и сорванный листок,
Потому, что поселиться
В этом крае я не мог.
Потому, что я прохожий,
Легкой тени полоса,
Шел, на скалы непохожий,
Непохожий на леса.
Я прошел над Алазанью,
Над волшебною водой,
Поседелый, как сказанье,
И, как песня, молодой.
Смерть
Старик стоял в купели виноградной,
Ногами бил, держась за столб рукой,
Но в нем работник, яростный и жадный,
Благоговел пред ягодной рекой.
Гремел закат обычный, исполинский,
Качались травы, ветер мел шалаш,
Старик шагнул за край колоды низкой,
Вошел босой в шалашный ералаш.
Худые ноги насухо он вытер,
Смотрел туда, долины сторожил,
Где в море листьев, палок, перекрытий
Сверкали лозы, падали ножи.
Все выведено было черной тушью,
Какой-то кистью вечно молодой,
Он, горсть земли зажав, прилег и слушал,
Шуршал в руке кремнистый холодок.
И холодок шел по кремнистым жилам.
Лежал, к земле прижавшись, не дрожа,
Как будто бы передавая силу
Тем смуглым лозам, людям и ножам.
Журчал в купели теплый сок янтарный,
И солнце, сжато солнечной грядой,
Столы снегов залив лиловым жаром,
Распаренным висело тамадой.
Размышляя
Еще живы клоаки и биржи,
Еще голой мулатки сосок,
Как валюта, в полночном Париже
Окупает веселья кусок.
Еще в зареве жарких притонов,
В паутине деляг и святош
И на каторжных долгих понтонах
Распинают людей не за грош.
Но на площади старой Бастилии
Тень рабочих колонн пролегла,
Целый век поколенья растили
Эту тень боевого крыла.
Чтоб крыло это власть не задело,
На изысканных улиц концы
С черепами на флагах трехцветных
Де-ля-Рока прошли молодцы.
Белой розы тряся лепесточки,
Вождь шагал, упоенно дыша,
И взлетали на воздух платочки,
И цилиндры качались спеша.
И приветствуя синие роты,
Проносился кликушеский альт,
И ломался каблук у красоток,
Истерически бивших в асфальт.
Чтоб крыло это власть не задело,
С пулеметом на черном плече
Гардмобилей тяжелое тело
Заслонило Париж богачей.
И над Сеной, к сраженью готовой,
Я увидел скрежещущий сон —
Лишь поставленных в козлы винтовок
Утомительно длинный разгон.
И под ними играли прилежно
Дети, роясь в песке золотом,
И на спинах пикейных и нежных,
Тень винтовок лежала крестом.
Деды их полегли у Вердена,
Где простор для погоста хорош.
Ты отцов их дорогой надменной
На какие форты поведешь?
О Европа! Покажется, будто
В этот час на тебя клевещу —
Не Давидом, в сандальи обутым,
Ты стоишь, зажимая пращу, —
Голиафом, готовым для казни,
Кровожадного пыла жена,
Ну так падай с хрипением навзничь,
Справедливой пращой сражена!
Розы Фландрии