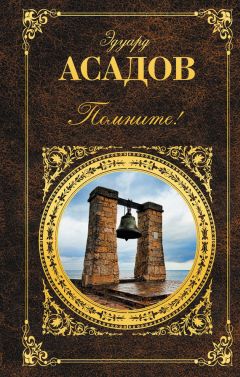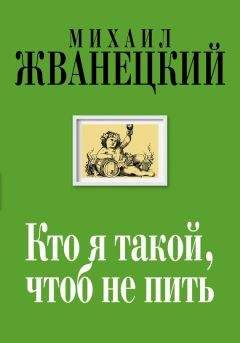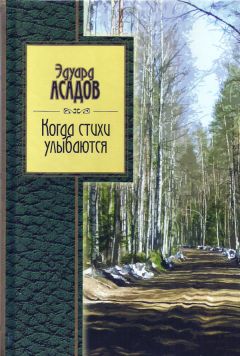Эдуард Асадов - Дума о Севастополе (сборник)
Шура, несмотря на всю свою женственность, обладавшая удивительно цельным и твердым характером, не признававшим ничего случайного, мелкого и пустого, тоже проходила сквозь все эти улыбки, шутки и взгляды, но поразительно свободно и легко. Она держалась со всеми непринужденно и просто, улыбалась, шутила и в то же время очень четко давала почувствовать ту незримую грань, отделяющую уважение от фамильярности, за которую никому и никогда перешагивать не позволяла. Как она сумела это сделать, не знаю, но постепенно между нею и всем остальным мужским населением бригады установились на редкость светлые и сердечные отношения.
Конечно, как всякая цельная натура, Шура мечтала, вероятно, о настоящей дружбе, любви и счастье. Но, по-видимому, не на войне, не теперь, а где-то в мирном будущем, прекрасном и далеком… И как-то само по себе получилось так, что, не выделяя персонально никого и в то же время готовая помочь в беде или на поле боя каждому и любому, она постепенно стала чем-то вроде любимицы бригады.
Памятуя о строгости Шуры, а может быть, втайне чуть-чуть и досадуя на нее за это, комбриг наш, уже давно потерявший волосы, но не потерявший кое-какие гусарские замашки, однажды на офицерском собрании, где обсуждались планы предстоящих боевых операций, напомнив, видимо для поднятия духа, положение о наградах, неожиданно пошутил, сказав, что, кроме всех прочих, он представит еще к награде того, кто сумеет покорить неприступное сердце нашей прекрасной Шуры, и при этом одарил ее лучезарной улыбкой. Полковник наш был храбрым и знающим офицером, но за душевную черствость и высокомерный характер в бригаде его любили не очень. И как выяснилось позже, Шуриной взаимности он добивался давно и довольно активно. Но это так, к слову.
За что бригада так уважала Шуру? За женскую порядочность и строгость? Да! За смелость в бою? Несомненно! Но существовала еще и третья, не менее важная, так сказать, глубинная, причина. Почти у каждого из гвардейцев оставалась дома любимая девушка, невеста, жена, и хоть они сами зачастую этого и не сознавали, но вот эта порядочность и честность Шуриной души укрепляла в них веру в надежность и преданность таких бесконечно далеких, а от этого еще более близких и дорогих, милых женских глаз.
Давние, дальние годы… Ковыльно-просторные степи Тавриды. Серая, как из единого куска стали, неподвижно-холодная вода Сиваша. За гребень Турецкого вала в дымных разрывах медленно и устало вползает расплавленный огненный диск. В небе пушистой стаей бегут и бегут облака…
Село Первоконстантиновка. Тихие побеленные хатки, долговязые силуэты колодезных журавлей, первые клейкие почки, доверчивые и внимательные девичьи глаза…
Молодость моя фронтовая! Сейчас она далеко-далеко и в то же время удивительно близко. Вспыхнула в памяти очередная зарница, и в двух шагах от себя я вижу Шуру, плотно затянутую в ладную офицерскую шинель. Приветливое округлое лицо, пушистая прядь, выбившаяся из-под меховой ушанки, надетой чуть-чуть набекрень. Прямой нос, словно нарисованные брови, внимательные серые глаза и чуть приоткрытые губы, готовые не то улыбнуться, не то сказать что-то важное и большое. Действительно ли она была хороша или мне это в ту пору так уж казалось, не знаю, – вероятнее всего, и то и другое вместе.
Мы стоим на окраине села в теплых закатных лучах и говорим, говорим, говорим… Нет, я вовсе не считал себя самым завидным женихом в бригаде. Были офицеры и много старше меня по званию, да и покрасивее, наверно, тоже попадались ребята. Один, например, комбат Извозчиков из 4-го дивизиона чего стоил! Честно говоря, я редко встречал такие правильные и красивые черты лица: беломраморная кожа, черные брови, волосы и глаза, маленький нос, щеки, губы – все словно вырезано искусной рукой ваятеля. Что-то задумчиво-нежное, почти женское светилось в этом лице. Периодически сталкиваясь с ним по служебным делам, я всякий раз исподволь любовался, глядя на это лицо. И характер, по-моему, у него превосходный. Будь я женщиной, непременно бы в него влюбился.
А начштаба нашего дивизиона, старший лейтенант Борис Лихачев, красавец с нагловато-веселыми глазами, сквернослов и балагур, но человек предобрейший. Да мало ли на ком можно остановить свою душу и взгляд! Нет, я тоже, наверное, был не из худших. И теперь, после ранения, вероятно, могу об этом говорить, не рискуя прослыть нескромным. И все же дело заключалось не в этом. А в том, что Шура, как и большинство порядочных людей на земле, решала сердечные дела, исходя из старинной народной мудрости: «Не по хорошему мил, а по милому хорош».
Познакомил меня с ней Юра Гедейко, который однажды вечером, когда на передовой было затишье и у нас никаких боевых операций не предвиделось, чтобы скоротать время, вдруг предложил:
– Давай сходим в первый дивизион к Шуре и попросим у нее что-нибудь почитать.
Скажу откровенно, что пошел я с ним не с очень большой охотой. Мне казалось, что возле нее, как возле куста шиповника, жужжит и кружится немало боевых шмелей, и был удивлен, когда мы застали ее в хозяйской комнате, сидящей у стола за чтением какого-то затрепанного журнала, в то время как в соседней комнате за стеной офицеры, склонясь над двумя шахматистами, никого и ничего не замечая, шумно и яростно обсуждали каждый очередной ход.
Гедейко подмигнул мне:
– Шура умеет поставить себя как надо.
Но в чем состоит это умение, я, честно говоря, в ту пору понять не мог. А продемонстрировала мне одну из граней этого искусства уже много-много лет спустя, в мирные дни, в Прибалтике, на скамеечке санатория, молодая пианистка Люся Бреславская.
За деревьями парка тихо шуршало море. Птицы, окончив рабочий день и собираясь на ночлег, пели как-то особенно задорно и дружно. Из дальнего конца парка, где находилась танцверанда, приглушаемые листвой, периодически слабыми волнами докатывались до нас плавные звуки музыки.
С Люсей мы познакомились недавно. Она самозабвенно любила музыку, а так как я музыку люблю тоже, то с удовольствием отвечала на мои многочисленные вопросы. Люся, по единодушному мнению отдыхающих, была здесь одной из самых интересных женщин. И почти все мужчины, проходя мимо, непременно раскланивались и старались с ней заговорить. Одни приглашали ее на танцы, другие в кино, третьи – просто погулять у моря. И если бы не мое присутствие, многие из них обязательно уселись бы рядом с нею на эту скамью. Такая бесцеремонность начала меня сердить. Она явно мешала так интересно начавшемуся разговору.
– Однако, – вздохнул я, – успехом, Люсечка, вы пользуетесь тут изрядным. Ни один из курортных рыцарей не пройдет мимо. Все прямо-таки сгорают при виде вас.
Люся сначала весело расхохоталась, а потом, после задумчивого молчания, неожиданно вдруг заметила:
– Мне очень нравятся ваши стихи. Вы превосходно разбираетесь в человеческих душах. Но хотите, и я открою вам один маленький секрет? Так сказать, наш сугубо женский. Видите, на какие жертвы иду. Ну, хотите? – И, улыбнувшись, добавила: – Вижу, что задела ваше любопытство. Ну, хорошо, слушайте… Неужели вы в самом деле думаете, что все проходящие мимо мужчины останавливаются и заговаривают со мной вот так произвольно, сами по себе?
– Ну да, – удивился я. – А как же еще?
– Эх, наивный вы человек, – ласково потрепала меня по руке Люся. – Хорошо, я признаюсь вам. Но только, чур, никому нигде меня не выдавать. Это только вам.
– Спасибо, Люся. Я весь внимание.
– Ну так вот, – на этот раз уже без всякой улыбки продолжала она. – Останавливаются передо мной все эти рыцари и гусары прежде всего потому, что так хочу я сама. То есть я держу сейчас себя так, что приветливым взглядом, улыбкой, короче говоря, всем своим видом как бы поощряю их на знакомство, кокетливый разговор, приглашение. И если говорить откровенно, тут ничего особо хитрого нет. Можно вести себя так, что каждому будет превосходно видно, хочешь ты такого общения или нет.– Любопытно, – признался я. – Вы знаете, как-то я никогда об этом не думал.
– Ну вот, – вновь засмеялась Люся, – видите, и я смогла вам чем-то послужить. А чтобы вы окончательно убедились в правоте моих слов, вот сейчас я буду вести себя совершенно иначе. Давайте продолжим разговор, а вы обратите внимание, будут мужчины останавливаться возле меня или нет.
И произошло буквально чудо. Идущих по-прежнему мимо нас рыцарей сердечных прогулок, танцев и кино внезапно вдруг словно бы подменили. Теперь они, проходя, спокойно скрипели подошвами по песку, не задерживаясь, не замедляя шагов. Иногда вежливо здоровались и, получив такой же вежливый ответ, шли дальше, каждый по своим делам. И ни один из них ни разу не заговорил, не пошутил, не улыбнулся.
– Ну как, – голосом экспериментатора горделиво спросила Люся, – теперь все ясно?
– Спасибо за урок, – восхищенно поблагодарил я. – Вы просто артист и великий мим.
– Да нет, – спокойно ответила, поднимаясь, Люся, – это просто кусочек обычной жизни. Но теперь, я думаю, ваша очередь пригласить меня на моцион вдоль моря и назад. – И засмеявшись, добавила: – Я пройдусь с удовольствием.