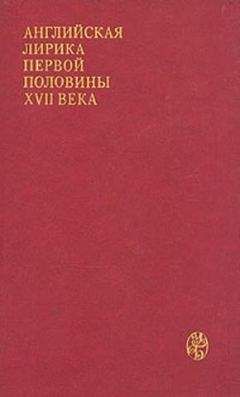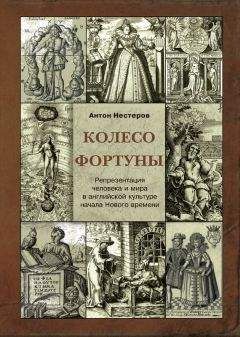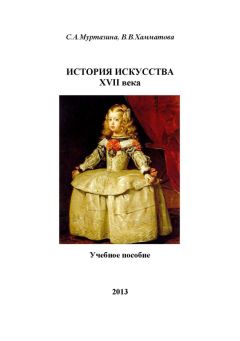Дмитрий Бак - Сто поэтов начала столетия
Игорь Иртеньев приобрел известность, применяя иронию вне басенного канона, то есть помимо классической сатиры, при этом во время тотальной переоценки ценностей, когда родился образ «поэта-правдоруба», акцентировалось не высмеивание конкретных моральных заблуждений либо нарушений, но высмеивание как таковое. Причины понятны – уж больно очевидно разрешенная сатира советской эпохи отдавала фальшью и казенностью (из серии «если кто-то кое-где у нас порой Честно жить не хочет…»), а то и просто ложью, поскольку «нечестность» во многих сферах была возведена в культ и в правило.
Если столько лет сумел остроумный и тонкий поэт Иртеньев продержаться на гребне известности, не расставаясь со стандартизированным приемом иронии, значит – было и есть в его манере и что-то помимо приема: во в этом и попробуем разобраться.
Универсальная ситуация в стихах Иртеньева – отмежевание пишущего от большинства, причем большинство это (в пику псевдо-пафосному официальному обозначению народ) часто называется сниженно-демографически: население. Примеры многочисленны:
Мне с населеньем в дружном хоре,
Боюсь, не слиться никогда,
С младых ногтей чужое горе
Меня, вот именно, что да…
________
Ее населению и, соответственно, мне,
Поскольку душою являюсь его, как известно,
И, в пропасть скользя со страной этой самой совместно,
Уже не успею в другой я родиться стране…
________
Призвал к населения росту
Мой президент меня,
Думаешь, это просто
Так вот день изо дня?..
________
Чем характерно население
Российской нашей Федерации?
Тем, что легко в изготовлении,
Но тяжело в эксплуатации…
________
Люблю в ночи смотреть я порно,
Особенно в кругу семьи,
Ему все возрасты покорны
И населения слои…
Припоминается еще одна деидеологизированная номинация: толпа, во времена оны последовательно подменявшая понятие народ, взятое прямиком из официозной триады (православие, самодержавие, народность). Конечно, нельзя забывать, что в известных стихотворениях классика «о поэте и поэзии» толпе противостояла фигура поэта, а вовсе не насмешника.
Впрочем, ироническое пересмеиванье навязших в зубах казенных правил и у Иртеньева вовсе не абсолютно. Очень важно выделить и присмотреться к тем стихотворениям, в которых позиция ироника уступает место вовсе не титаническому образу стихотворца-пророка, но человеку частному, не просто не желающему сливаться с народом (=коллективом = толпой), но отстаивающему свою индивидуальность, независимость, незыблемую автономию, воплощенную, однако, в подробностях сугубо бытовых, частных:
Хочу, друзья, поговорить о личном,
А вы меня послушайте о нем.
Немало станций есть в метро столичном,
Растет число их с каждым новым днем.
Но лишь одной я повторяю имя…
‹…›
«Таганская», души моей отрада,
Как с юностью, я с нею встречи жду.
‹…›
Мы с ней одною связаны судьбою,
С нее в бессмертье начал я полет.
Не оттого ль все чаще меж собою
Народ ее «Иртеньевской» зовет.
Ироническая концовка в таком контексте выглядит почти демонстративной, если угодно, искусственной маскировкой, – чтобы читателю сподручней было оставаться в границах привычных ожиданий иронической насмешки в стихах поэта-правдоруба.
Есть, однако, у Иртеньева тексты, где этого демонстративного возвращения в лоно иронии не происходит вовсе, а к привычному восприятию его стихов возвращают разве что демонстративно регулярная метрика да рифма.
Вроде все уже песни пропеты,
И, казалось бы, сплясаны пляски,
Но еще только брезжат сюжеты,
Что потребуют яркой огласки.
И пока мы в бессмысленных спорах
Вырываем друг другу чуприны,
Где-то там, на кудыкиных горах,
Набухают такие лавины
И такие доносятся лязги,
Что смешны по сравнению с ними
Эти милые детские дрязги
Меж не самыми малыми сими.
Границы эмоции здесь вовсе не связаны с легкой издевкой над тем в жизни, что и подлежит легкой издевке, непознанные «лязги» жизни отсылают к тайнам невыдуманным, но устрашающим и важным, находящимся далеко за пределами привычного иртеньевского круга бытовых частностей. Конечно, и здесь иронический интертекст исправно работает, но возможные скрытые смысловые и ритмические цитаты скрыты так глубоко, что в реальности их существования вполне можно и усомниться (смысл: «гармония в стихийных спорах…»; ритм: «неужели вон тот – это я?..»).
Подлинная лирика самобытно русского поэта Игоря Иртеньева, как мы видим, начинается там, где иссякает инерция иронического приема, а удалой пересмешник становится внимательным и ранимым наблюдателем своей частной, «сугубо личной» жизни:
Вот так, под разговорчики в строю,
Едином и хождении не в ногу,
И проживаем друг мой понемногу
Мы жизнь сугубо личную свою.
Этот вывод тем более важен, что и времена сменились, и воздух вокруг иной, о чем сам Иртеньев высказался предельно ясно:
Всего лишь за пяток какой-то лет
Так изменилась вся система знаков,
Что мух не отделить уж от котлет,
Козлищ от агнцев, плевелы от злаков.
Но сколь бы плотной смесь та ни была,
Она всего лишь то и означает,
Что отвечает агнец за козла,
Хоть тот и ни за что не отвечает.
Что ж посмотрим, как будет выглядеть в наблюдениях Игоря Иртеньева реальность сегодняшнего дня. Ирония отошла на второй план – как говаривал полузабытый классик советской истории литературы – не начало ли перемены?
БиблиографияРяд допущений. М.: Независимая газета, 2000.
Антология сатиры и юмора России XX века. Т. 5 / И. Иртеньев. М.: ЭКСМО-Пресс, ЭКСМО-маркет, 2000. 384 с.
Народ. Вход-выход. М.: Эксмо, 2003.
Избранное. М.: Эксмо, 2005.
Утром в газете… М.: Изд-во АНО «Редакция Ежедневной Газеты», 2006.
Марксистский переулок. М.: Астрель, 2010.
Безбашенный игумен. М.: Олма Медиа Групп, 2013.
Повестка дна. М.: Время, 2015.
Александр Кабанов
или
«Отечество, усни, детей своих не трогай…»
Александр Кабанов изначально самоопределен как человек и поэт, располагающийся между стихий, на теплом южном ветру, в разверзающейся прогалине между языками, культурами, бытовыми укладами – в этом его сила и слабость. С одной стороны – полнозвучный голос способен преодолевать любые слуховые фильтры и ограничения, ничего не упуская, не теряя по пути, чувствуя специфику всех составляющих причудливого поэтического мира, несопоставимого ни с одной конкретной предметной реальностью и – сразу со всеми. С другой же стороны, очень уж часто стали повторяться в стихах Кабанова фразы и особенно перечни на постмодернистском волапюке – эффектные, но одноразовые в своей удивительности и нестандартности.
Челночники переправляют в клетчатом бауле
Харона через таможенный терминал,
старые боги ушли, а новые боги уснули,
электронные платежи, бездна, а в ней – безнал.
В позе эмбриона с баночкой кока-колы
о чем-то шипящей и темно-красной на вкус,
Харон засыпает, и снятся ему оболы,
киоск обмена валюты (очень выгодный курс!),
школьное сочинение: «Как ты провел Лету?»,
берег, плывущий навстречу, в жимолости и хандре,
первая женщина – Индра, а последняя – Света
с татуировкой ангела на бедре.
Она оставила визитку с телефонами этих
самых челночников, жителей Чебоксар.
Марк Аврелий был прав: смерть – сетевой маркетинг,
а любовь – черно-белый пиар.
Баул открывается радостным: «Прилетели!»
Харон успевает подумать, как же ему повезло,
он еще не видит пустыню, по которой идти недели,
и бедуина, который выкапывает весло.
Все здесь соответствует всему и псевдонеожиданные и вовсе не странные сближенья лета и Леты, бездны и безнала посылают читателю сигнал об одном и том же открытии, сделанному в литературе лет сорок: мифологическое прошлое не умирает, оно продолжает жить в контурах повседневности, способное объяснить ее, вырваться на волю страшной тайной, проклятием, магическим выходом из безвыигрышного положения.
Мумия винограда – это изюм, изюм,
эхо у водопада, будто Дюран-Дюран,
мальчик за ноутбуком весь преисполнен «Doom»,
ну а Господь, по слухам, не выполняет план.
Прямо из секонд-хенда вваливается год,
вот и любовь – аренда, птичьи мои права,
прапорщик бородатый вспомнился анекдот,
лезвие бреет дважды – это «Нева-Нева».
Старый почтовый ящик, соросовский ленд-лиз
для мертвецов, входящих и исходящих из
снежного полумрака этих ночных минут,
Что ты глядишь, собака? Трафик тебя зовут.
Крыша этого дома – пуленепробиваемая солома,
а над ней – голубая глина и розовая земля,
ты вбегаешь на кухню, услышав раскаты грома,
и тебя встречают люди из горного хрусталя.
Дребезжат, касаясь друг друга, прозрачные лица,
каждой гранью сияют отполированные тела,
старшую женщину зовут Бедная Линза,
потому, что всё преувеличивает и сжигает дотла.
Достаешь из своих запасов бутылку «Токая»,
и когда они широко открывают рты –
водишь пальцем по их губам, извлекая
звуки нечеловеческой чистоты.
К чему приводит в поэзии состояние подобной легкости бытия, вполне, впрочем, выносимой? Какие у нее новые координаты, коль скоро достигнуть определенности смысла больше невозможно, нельзя надеяться испытать боль или радость, а только перепевы былых ощущений, как с этим быть?