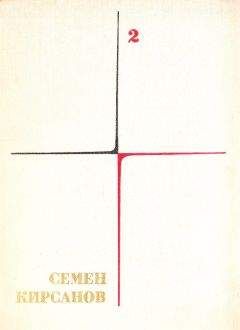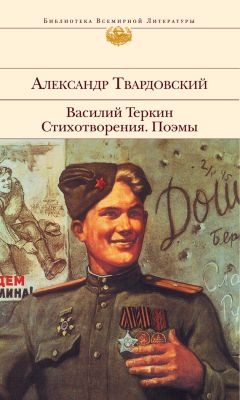Виктор Боков - Собрание сочинений. Том 3. Песни. Поэмы. Над рекой Истермой (Записки поэта).
Огород Клаве некому починить, кроме как самой. Мать умерла, отец убит в Отечественную, четыре брата-красавца пали смертью храбрых там же, где и отец. Была сестра, да, выйдя замуж, уехала с мужем на Каму. Так-то вот судьба распорядилась, что оставила девушку с престарелой бабкой за хозяина и за хозяйку дома.
Увидев меня на крыльце с топором, Клава справилась:
— Городишь?
— Чиню.
— Пойдем в мой заказ!
В Клавином заказе было много лесу-тончаку. Я рубил исключительно ивняк. У меня на то свое соображение: он и гнется легче, и леса из него настоящего не вырастет, и по его рубкам отращиваются хорошие прутья для долгуш. Топор Клавы не щадил ни осинок, ни самых стройных березок. Но не дай бог, если по ошибке и недосмотру на землю падала рябинка. Сколько раскаяний и вздохов летело тогда из груди девушки. В Клавином заказе рябины, как правило, получали помилование.
— Ты что это? — не вытерпел я.
— Жалость у меня к рябине, — объяснила Клава. — И все через песню это «Что стоишь, качаясь…».
Клава потихоньку запела.
Когда взяли отца и братьев на войну, ей было тринадцать лет, когда никого из них не осталось в живых, ей было пятнадцать. Много горя пережила Клава, будучи подростком, и как ей близка тихая, грустная песня о рябине!
МучительТемной дождливой ночью в окошко медпункта постучали. Медсестра, привыкшая к таким визитам, спросила: «Кто там?» Назвался председатель соседнего колхоза. Надо идти и принимать роды у его жены.
Дорога была трудная, ноги скользили и разъезжались по глине, медсестра сердилась:
— Я не обязана вас обслуживать, это не мой участок. Хоть бы лошадь запрягли.
— Да тут всего три километра, — оправдывался председатель.
Они пришли вовремя. Отец будущего младенца остался на кухне, медсестра прошла в первую половину избы, где лежала роженица.
С болью и укором она полупричитала, полуплакала:
— Мучитель! Ходишь да штанами трясешь, не знаешь, как мне трудно.
Они были уже немолодые, муж и жена, и знали друг друга досконально. Роженица иногда забывалась, а потом, как бы спохватившись, начинала стонать:
— Мучитель! Мучитель ты мой проклятый.
Родилась девочка. Медсестра сделала, что нужно, села на лавку и тут же уснула, прислонясь к косяку. Это длилось недолго, она очнулась и стала собираться. За окном еще было темно и дождливо, и кто-то шел по селу, причмокивая грязью.
— Лошадь бы надо запрячь, — сказала медсестра.
— Хомутов нет, — сказал председатель.
Фельдшерица шла одна и проклинала сельскую глушь.
Всю дорогу, как знакомая горестная мелодия, звучал у нее в ушах голос роженицы: «Мучитель! Мучитель ты мой проклятый».
Когда фельдшерица разделась и легла в кровать, она не могла заснуть, к ней настойчиво приходил один и тот же вопрос: «Может, он в самом деле мучитель?»
ЛампаИз закусок гостям больше всего нравились огурцы, и каждый, выпивая очередную рюмку, восклицал:
— Ах, огурцы!
Находили, что хорош засол, хвалили крепость, отмечали, что запах смородинового листа приятно волнует. Когда огурцы кончились, все стали просить еще.
Надо было сходить за ними в погреб.
Я взял керосиновую лампу, чтобы не упасть в погребе и не поломать ног.
Была тихая, темная, безветренная ночь, и в этой теплой ночи как-то по-домашнему уютно светила на огороде лампа. Я шел узкой тропинкой огорода. По одну сторону этой тропинки стояли ульи, по другую — рослые подсолнухи. Пахло медом и листом картофеля, в деревянных ульях все еще не могли улечься волны дневного пчелиного гуда.
Я нес лампу на уровне лобастых подсолнухов, с которых еще не опал цвет. Так хорошо вязалось свечение керосиновой лампы с матово-спокойным, утомленным пламенем подсолнухов. Каждый из них, принимая на себя свет лампы, на мгновение вспыхивал желтым цветом, и тут обнаруживалось, как сладко дремали на корзинах соцветий бездомные странники из насекомых. Среди них я узнал и сладкоежку шмеля. Он спрятал голову в венчике цветка и забылся. Я потрогал спящего шмелька пальцем.
Он отпихнул меня, точь-в-точь как это делает человек, которому мешают спать.
Когда я шел из погреба, впереди меня стали перебегать с места на место какие-то гиганты: это были тени от подсолнухов.
Я проводил гостей и не захотел в хату. Светало. Кто- то звал меня вдаль, за горизонт, к своему ручью, к журчанию своего слова.
Я зашел на огород.
Подсолнухи с прилежностью и внимательностью учеников ждали появления солнца.
Ночная керосиновая лампа была теперь для них как сказка.
ЛекцияРайонный лектор дочитывал лекцию в тесной читаленке. Людей было полно, все они не столько слушали, сколько следили за лектором: как он ищет цитаты, как вывертывает лампу, чтобы усилить свет.
Когда было сказано: «На этом я закончу», — посыпались вопросы.
Конюх Гриша Изнаиров, человек, который может чинить примуса и рыть колодцы, поднял руку и спросил:
— Остынет ли Солнце и какие принимаются меры?
Инвалид дядя Саша Горохов с порога озадачил другим вопросом:
— Дадут ли зарплату к Первому маю?
С подоконника прилетел вопрос от солдата-отпускника с голубыми авиапогонами:
— Скажите, какое расстояние до ближайшей звезды?
— Каких лет можно выходить замуж? — спрашивает ломающимся баском подросток.
Лектор нашелся и стал отвечать. Оживленно заговорили в зале.
Очень довольны были колхозники.
Больной попТяжело болел отец Дементей после того, как в погреб упал. И знахарки его местные пользовали, и гомеопат приезжал по вызову, а все не шло на поправку. Вылечила батю старая Ефимовна, земский врач. Когда Дементей совсем окреп и стал ходить, он нанес визит Ефимовне, которая за многолетнее сидение в деревне привыкла к водочке.
Отец Дементей вынул сотенную бумажку и послал за вином.
Под водочку хорошо шли грибки, капустка. Хмелели служитель культа и воин из армии Гиппократа. Старая Ефимовна осмелилась спросить:
— А вы верите в бога?
Дементей опрокинул стопку и отечески добросердечно сказал своей приятельнице:
— Ефимовна! Давай о работе говорить не будем!
ГуляньеБабы сложились по окончании сева, купили беленького и на зеленом лужке стали праздновать. Стаканы стояли на траве, закуска — гора нарезанных огурцов — в центре круга. Со второго захода хмель стукнул в голову, незаметно запели. Песня сдруживала сейчас подгулявших женщин не меньше, чем труд на поле. Когда надо было брать высокие ноты, кто-нибудь говорил:
— Ну, бабоньки, возьмем.
Высокие подголоски, как молнии, прошивали хрипоту голосов. Запели «Уж ты, сад, ты, мой сад…», любимую песню Подмосковья.
Тут самая веселая песенница смолкла и повернула голову вон из круга.
— Чего не поешь? — спросил я.
— Сад мой посох, — медленно-медленно ответила она, — поливать некому!
Подоспела гармонь, Аннушка овладела собой и начала так дробить, что и все другие, помахивая сдернутыми с голов платками, пошли в пляс.
С тех пор, где бы ни увидел Аннушку, всегда спрошу:
— Как сад?
И тут в глазах возникает борьба — вдовья печаль спорит с веселой натурой и жаждой жить.
ПО-2Две сельские учительницы, обе Полины, обе молодые, красивые. В селе их называют, как самолеты, ПО-2.
Одна играет на гитаре, поет красивым, бархатным голосом.
Другая, замужняя, все рассказывает о приметных мужчинах района. Вспомнится и молодой прокурор, который проводил ее из клуба и сказал:
— Вы созданы для иной жизни.
И заезжий журналист из областного центра, уверявший:
— О вас надо стихи писать!
И врач-хирург, катавший Полину на дрожках по проселочной:
— Вам бы у меня в операционной ассистенткой быть.
Сколько молодых интересных мужчин встретилось Полине после замужества, и каждый при встрече бередил ее душу и уезжал. И оставалась она со своим мужем, сельским механиком. В жизни у нее отрада — вволю наговориться и намечтаться с другой Полиной.
Сойдутся, незамужняя запоет, а замужняя смотрит вдаль: нет ли нового человека на горизонте? Нет!
Все люди в поле, и так тихо, что слышно, как шмели и пчелы проворно и старательно перебирают пестики цветов на кустах ирги.
ХаритонЗа все брался Харитон: счетоводом колхоза был, бригадиром был, председателем колхоза на собрании проходил единогласно. На эту должность люди ставили его не без желания проверить: действительно ли «кто был ничем, тот станет всем»?
Харитон справился и председателем.
Будь бы он хоть чуточку почестолюбивее, подниматься бы ему по лестнице общественной славы.
Но в том-то и дело, что простодушный Харитон зримо тосковал на всех этих постах по своему кровному делу. Его манило к себе пастушество. Сей год опять не вытерпел Харитон и нанялся пасти.