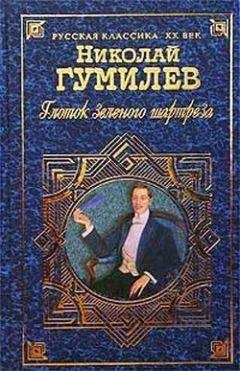Владимир Набоков - Стихи
<1927>
К России
Мою ладонь географ строгий
разрисовал: тут все твои
большие, малые дороги,
а жилы — реки и ручьи.
Слепец, я руки простираю
и все земное осязаю
через тебя, страна моя.
Вот почему так счастлив я.
И если правда, что намедни
мне померещилось во сне,
что час беспечный, час последний
меня найдет в чужой стране,
как на покатой школьной парте,
совьешься ты подобно карте,
как только отпущу края,
и ляжешь там, где лягу я.
1928 г.
Кинематограф
Люблю я световые балаганы
все безнадежнее и все нежней.
Там сложные вскрываются обманы
простым подслушиваньем у дверей.
Там для распутства символ есть единый —
бокал вина, а добродетель — шьет.
Между чертами матери и сына
острейший глаз там сходства не найдет.
Там, на руках, в автомобиль огромный
не чуждый состраданья богатей
усердно вносит барышень бездомных,
в тигровый плед закутанных детей.
Там письма спешно пишутся средь ночи:
опасность… трепет… поперек листа
рука бежит… И как разборчив почерк,
какая писарская чистота!
Вот спальня озаренная. Смотрите,
как эта шаль упала на ковер.
Не виден ослепительный юпитер,
не слышен раздраженный режиссер;
но ничего там жизнью не трепещет:
пытливый гость не может угадать
связь между вещью и владельцем вещи,
житейского особую печать.
О, да! Прекрасны гонки, водопады,
вращение зеркальной темноты.
Но вымысел? Гармонии услада?
Ума полет? О, Муза, где же ты?
Утопит злого, доброго поженит,
и снова, через веси и века,
спешит роскошное воображенье
самоуверенного пошляка.
И вот — конец… Рояль незримый умер,
темно и незначительно пожив.
Очнулся мир, прохладою и шумом
растаявшую выдумку сменив.
И со своей подругою приказчик,
встречая ветра влажного напор,
держа ладонь над спичкою горящей,
насмешливый выносит приговор.
1928 г.
Острова
В книге сказок помню я картину:
ты да я на башне угловой.
Стань сюда, и снова я застыну
на ветру, с протянутой рукой.
Там, вдали, где волны завитые
переходят в дымку, различи
острова блаженства, как большие
фиолетовые куличи.
Ибо золотистыми перстами
из особой сладостной земли
пекаря с кудрявыми крылами
их на грани неба испекли.
И, должно быть, легче там и краше,
и, пожалуй, мы б пустились вдаль,
если б наших книг, собаки нашей
и любви нам не было так жаль.
1928
Расстрел
Небритый, смеющийся, бледный,
в чистом еще пиджаке,
без галстука, с маленькой медной
запонкой на кадыке,
он ждет, и все зримое в мире —
только высокий забор,
жестянка в траве и четыре
дула, смотрящих в упор.
Так ждал он, смеясь и мигая,
на именинах не раз,
чтоб магний блеснул, озаряя
белые лица без глаз.
Все. Молния боли железной.
Неумолимая тьма.
И воя, кружится над бездной
ангел, сошедший с ума.
1928 г.
Оса
Твой панцирь, желтый и блестящий,
булавкой я проткнул
и слушал плач твой восходящий,
прозрачнейший твой гул.
Тупыми ножницами жало
я защемил — и вот
отрезал… Как ты зажужжала,
как выгнула живот!
Теперь гуденье было густо,
и крылья поскорей
я отхватил, почти без хруста,
у самых их корней.
И обеззвученное тело
шесть вытянуло ног,
глазастой головой вертело…
И спичку я зажег, —
чтоб видеть, как вскипишь бурливо,
лишь пламя поднесу…
Так мучит отрок терпеливый
чудесную осу;
так, изощряя слух и зренье,
взрезая, теребя, —
мое живое вдохновенье,
замучил я тебя!
<1928>
Разговор
Писатель. Критик. Издатель.
Писатель
Легко мне на чужбине жить,
писать трудненько, — вот в чем штука.
Вы морщитесь, я вижу?
Критик
Скука.
Нет книг.
Издатель
Могу вам одолжить
два-три журнала, — цвет изданий
московских, — "Алую Зарю",
"Кряж", «Маховик»…
Критик
Благодарю.
Не надо. Тошно мне заране.
У музы тамошней губа
отвисла, взгляд блуждает тупо,
разгульна хочет быть, груба;
все было б ничего, — да глупо.
Издатель
Однако, хвалят. Новизну,
и быт, и пафос там находят.
Иного — глядь — и переводят.
Я знаю книжицу одну —
Критик
Какое! Грамотеи эти,
Цементов, Молотов, Серпов,
сосредоточенно, как дети,
рвут крылья у жужжащих слов.
Мне их убожество знакомо:
был Писарев, была точь-в-точь
такая ж серенькая ночь.
Добро еще, что пишут дома, —
а то какой-нибудь Лидняк,
как путешествующий купчик,
на мир глядит, и пучит зрак,
и ужасается, голубчик:
куда бы ни поехал он,
в Бордо ли, Токио — все то же:
матросов бронзовые рожи
и в переулочке притон.
Издатель
Так вы довольны музой здешней,
изгнанницей немолодой?
Неужто по сравненью с той
она вам кажется —
Критик
Безгрешней.
Но, впрочем, и она скучна…
А там, — нет, все-таки там хуже!
Отражены там в серой луже
штык и фабричная стена.
Где прихоть вольная развязки?
Где жизни полный разговор?
Мучитель муз, евнух парнасский,
там торжествует резонер.
Издатель
Да вы, как погляжу, каратель
былого, нового, всего!
что ж надо делать?
Критик
Ничего,
Скучать.
Издатель
Что думает писатель?
Как знать, — быть может, суждено
так развернуться…
Писатель
Мудрено.
Года идут. Язык, мне данный,
скудеет, жара не храня,
вдали живительной стихии.
Слова, как берега России,
в туман уходят от меня.
Бывало, поздно возвращаюсь,
иду, не поднимая глаз,
неизъяснимым насыщаюсь
и знаю: где-то вот сейчас
любовь земная ждет ответа
иль человек родился; где-то
в ночи блуждают налегке
умерших мыслящие тени;
бормочет где-то русский гений
на иностранном чердаке.
И оглушительное счастье
в меня врывается… Во всем
к себе я чувствую участье, —
в звездах и в камне городском.
И остываю я словами
на ожидающем листе…
Очнусь, — и кроткими друзьями
я брошен, и слова — не те.
Издатель
Я б, господа, на вашем месте
Парнас и прочее — забыл.
Поймите, мир не тот, что был.
Сто лет назад целковых двести
вам дал бы Греч за разговор,
такой по-новому проворный,
за ямб искусно-разговорный…
Увы: он устарел с тех пор.
<1928>
Толстой
Картина в хрестоматии: босой
старик. Я поворачивал страницу,
мое воображенье оставалось
холодным. То ли дело — Пушкин: плащ,
скала, морская пена… Слово «Пушкин»
стихами обрастает, как плющом,
и муза повторяет имена,
вокруг него бряцающие: Дельвиг,
Данзас, Дантес, — и сладостно-звучна
вся жизнь его, — от Делии лицейской
до выстрела в морозный день дуэли.
К Толстому лучезарная легенда
еще не прикоснулась. Жизнь его
нас не волнует. Имена людей,
с ним связанных, звучат еще незрело:
им время даст таинственную знатность,
то время не пришло; назвав Черткова,
я только б сузил горизонт стиха.
И то сказать: должна людская память
утратить связь вещественную с прошлым,
чтобы создать из сплетни эпопею
и в музыку молчанье претворить.
А мы еще не можем отказаться
от слишком лестной близости к нему
во времени. Пожалуй, внуки наши
завидовать нам будут неразумно.
Коварная механика порой
искусственно поддерживает память.
Еще хранит на граммофонном диске
звук голоса его: он вслух читает,
однообразно, торопливо, глухо,
и запинается на слове «Бог»,
и повторяет: «Бог», и продолжает
чуть хриплым говорком, — как человек,
что кашляет в соседнем отделенье,
когда вагон на станции ночной,
бывало, остановится со вздохом.
Есть, говорят, в архиве фильмов ветхих,
теперь мигающих подслеповато,
яснополянский движущийся снимок:
старик невзрачный, роста небольшого,
с растрепанною ветром бородой,
проходит мимо скорыми шажками,
сердясь на оператора. И мы
довольны. Он нам близок и понятен.
Мы у него бывали, с ним сидели.
Совсем не страшен гений, говорящий
о браке или о крестьянских школах…
И, чувствуя в нем равного, с которым
поспорить можно, и зовя его
по имени и отчеству, с улыбкой
почтительной, мы вместе обсуждаем,
как смотрит он на то, на се… Шумят
витии за вечерним самоваром;
по чистой скатерти мелькают тени
религий, философий, государств, —
отрада малых сих… Но есть одно,
что мы никак вообразить не можем,
хоть рыщем мы с блокнотами, подобно
корреспондентам на пожаре, вкруг
его души. До некой тайной дрожи,
до главного добраться нам нельзя.
Почти нечеловеческая тайна!
Я говорю о тех ночах, когда
Толстой творил, я говорю о чуде,
об урагане образов, летящих
по черным небесам в час созиданья,
в час воплощенья… Ведь живые люди
родились в эти ночи… Так Господь
избраннику передает свое
старинное и благостное право
творить миры и в созданную плоть
вдыхать мгновенно дух неповторимый.
И вот они живут; все в них живет —
привычки, поговорки и повадка;
их родина — такая вот Россия,
какую носим мы в той глубине,
где смутный сон примет невыразимых, —
Россия запахов, оттенков, звуков,
огромных облаков над сенокосом,
Россия обольстительных болот,
богатых дичью… Это все мы любим.
Его созданья, тысячи людей,
сквозь нашу жизнь просвечивают чудно,
окрашивают даль воспоминаний, —
как будто впрямь мы жили с ними рядом.
Среди толпы Каренину не раз
по черным завиткам мы узнавали;
мы с маленькой Щербацкой танцевали
заветную мазурку на балу…
Я чувствую, что рифмой расцветаю,
я предаюсь незримому крылу…
Я знаю, смерть лишь некая граница:
мне зрима смерть лишь в образе одном,
последняя дописана страница,
и свет погас над письменным столом.
Еще виденье, отблеском продлившись,
дрожит, и вдруг — немыслимый конец…
И он ушел, разборчивый творец,
на голоса прозрачные деливший
гул бытия, ему понятный гул…
Однажды он со станции случайной
в неведомую сторону свернул,
и дальше — ночь, безмолвие и тайна…
<1928>