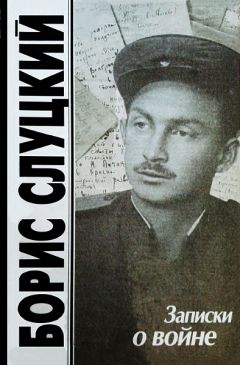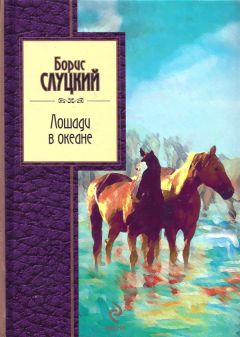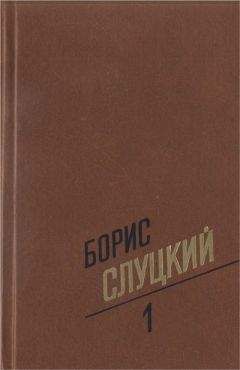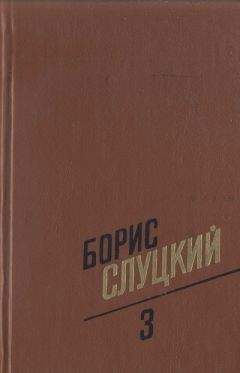Борис Слуцкий - Покуда над стихами плачут...
Полок было мало, и книг было мало. Этого — текущей литературы — не было, кажется, вовсе, кроме неотвязного минимума дареных книг с надписями. Недавно я осмотрел у Екатерины Васильевны библиотеку Заболоцкого.
Тютчев — в издании Маркса. Баратынский — двухтомное предреволюционное издание. Русские классики — в том числе марксовские же Достоевский и Куприн. Неполный (три тома) словарь церковнославянского языка и очень редкий «Библейский словарь» архимандрита Никифора. Книги, связанные с Грузией. Языка Н. А. не учил, даже, кажется, не пробовал, но историю, этнографию старался освоить. Н. А. не был ни книгочеем, ни библиоманом. В отличие от Мартынова, он не странствовал по букинистическим магазинам, покупал редко, и только самое нужное. Много ли он читал? Не знаю. Может быть, и много, но немногие книги, самонужнейшие. Точно так же, как, штудируя «Слово», он обращался прямо к Лихачеву[97], а размышляя о судьбах Вселенной — прямо к Циолковскому, минуя популяризаторов, добирался до первоисточников сведений. Он и в выборе книг, подобно Рахметову, полагал, что все необходимое есть в нескольких главных книгах, что их-то и нужно знать, а читать все остальное не обязательно.
В разговоре Н. А. был прост. Факты, им сообщаемые, были, как правило, не книжного, а жизненного происхождения. Любил и умел слушать. Я, очень поздний знакомый Н. А., почти не наблюдал веселящегося, шутливого Н. А., о котором сохранилось множество рассказов.
О Мартынове он говорил сначала ласково:
— Как поживает милейший Леонид Николаевич?
Потом раздраженно:
— Что же это печатает ваш Мартынов?
Чтил Мандельштама и с доброй улыбкой рассказывал, как тот разделывал под орех его стихи.
Высоко чтил Хлебникова.
О Пастернаке говорил как-то сверху вниз. Впрочем, оговаривался, что близок ему поздний Пастернак — с 1941 года. <…>
Об уме Сельвинского отзывался без уважительности.
Раза два с ухмылкой говаривал, что женщина стихи писать не может. Исключений из этого правила не делал ни для кого.
Я хорошо помню свою первую встречу с Заболоцким — благо она происходила на глазах у всего человечества, а точнее — на глазах у всех советских телезрителей.
Дело было, кажется, в 1956 году. Вышел первый номер «Литературной Москвы», и мы оба вместе с Асеевым, Сурковым и еще кем-то были званы выступить на телевидении.
Телевидение было тогда свежайшей новинкой. Я выступал в первый раз. Заболоцкий, наверное, тоже. В студии на Шаболовке стояла чрезвычайная жара — градусов в сорок. Нас мазали, пудрили и долго, вдохновенно рассаживали. Мы оба были подавленны и помалкивали.
Командовал передачей Сурков. По его плану, где-то в самом конце отведенного «Литературной Москве» часа он должен был сказать: «А вот поэты Заболоцкий и Слуцкий. Вы видите, они оживленно разговаривают друг с другом!» После чего мы должны были прекратить разговор, осклабиться и почитать стихи — сначала Н. А., потом я.
Передача шла, до конца было еще далеко, я сидел под юпитером, плавился, расплавлялся и думал о том, что вот рядом со мной помалкивает Заболоцкий. Оба мы помалкивали и думали свои отдельные думы, нимало не контактируя друг с другом.
Когда Сурков сказал запланированную фразу и глазок телекамеры уткнулся в нас двоих, это застало нас врасплох. Очевидцы свидетельствуют, что мы как-то механически дернулись друг к другу, механически осклабились, после чего Н. А. начал читать — как обычно, ясно выговаривая каждое слово, серьезно, вдумчиво, четко отделяя текст от себя, от своего широкого лица, пухлых щек, больших очков в роговой оправе, аккуратистской прически, от всей своей аккуратистской наружности, плохо увязывавшейся с текстом.
Это было первое знакомство с Заболоцким, а первое знакомство с его стихами состоялось лет за двадцать до этого — в Харькове. Заболоцкий впервые предстал предо мною цитатой в ругательной статье о Заболоцком, островком нонпарели в море петита, стихами, вкрапленными во враждебную им критику.
В России не стоит ругать, цитируя. Одна из главных русских традиций — традиция жалости к поруганному, униженному и оскорбленному. Даже у тех, у кого не было жалости, был интерес. Цитата запоминалась, опровержения забывались, сливались в ровный гул, хорошо оттенявший стихи.
Сам Н. А. относился к ругани иначе. Осенью 1957 года (в октябре) мы сидели в просторной горнице Правления Союза писателей, томились в ожидании машины, которая должна была отвезти нас на вокзал. Мы ехали в Италию, в Рим.
Н. А. томился дополнительно. Он забыл папиросы.
В комнату вошел невысокий обезьяновидный человек. Не вошел, собственно, а только сунулся — искал кого-то.
Н. А. так и кинулся к нему — попросил папиросу, и вошедший с радостной готовностью сказал:
— Пожалуйста, Николай Алексеевич. — И ушел.
Н. А. сел, затянулся раз и другой, а потом, блаженствуя, спросил:
— Интересно, кто же это был — с папиросами?
Я ответил:
— Ермилов.
Н. А. бросил папиросу на пол, растоптал и нахмурился. Ермилов был петитом статьи, в которой островками плавали двадцать лет назад стихи Заболоцкого.
Немалые (сравнительно) командировочные, которые были у нас в Италии, Заболоцкий тратил занятно. Купил много дорогих лекарств — для сына своего старого друга. Купил очки в золотой оправе — для себя. Очки в золотой оправе ему очень хотелось — наверное, всю жизнь. Он и смущался этого редкостного и барственного желания, и холил его. Так или иначе, разговор о них возникал уже в поезде. А в Риме очки были куплены за немалую сумму, водружены на нос, и лицо Н. А. окончательно вырвалось из всех мировых стандартов поэтического лица.
Рипеллино, впрочем нежно любивший Заболоцкого, написал, что Заболоцкий похож на бухгалтера или фармацевта.
Это обидело Н. А., и я хорошо помню, как он сказал о Рипеллино:
— Сам-то он похож на парикмахера.
Что было истинной правдой.
У Н. А. было лицо умного и дельного человека, очень сдержанного. Чувства, эмоции на нем отражались редко — чему, кстати, способствовали очки. Никаких наружных знаков вдохновения не было. В одежде, всегда тщательной, прическе, походке — не было ничего рваного, показного, никакого романтизма в смысле темноты и вялости. Молва представляет поэта в виде Владимира Ленского, забывая ироническое отношение Пушкина к своему созданию.
В Николае Заболоцком не было ничего от Владимира Ленского. Что же касается бухгалтеров, то это, как правило, люди дельные и точные. На войне из бухгалтеров выходили превосходные штабисты.
Фармацевты также люди ученые и по самой сути своей профессии — точные и дельные.
Так что Н. А. мог бы и не обижаться на Рипеллино.
Очки и лекарства были куплены, денег осталось довольно много. Я напугал В. М. Инбер, что ей не отчитаться за представительские, которые она держала для всей нашей «северной» тройки поэтов, и Сухофрукт (так Заболоцкий тайно, но упорно именовал Веру Михайловну) выдал нам 30 000 лир.
Тратить эти тысячи надо было почти немедленно, и вот за день до отъезда посольская молодежь повела Твардовского, Заболоцкого и меня к дяде Тому. Так в посольстве перекрестили де Тома, содержателя небольшого оптового склада текстиля, где советским продавали со значительной скидкой.
Здесь помимо всего прочего мы купили по отрезу на костюм — по три метра черной, плотной дорогой шерсти, торжественной и академической даже в куске. Я свой отрез продал несколько месяцев спустя. Твардовский — не знаю, а Н. А. заказал костюм. Портной принес его в окончательном виде вскоре после того, как мы с Бажаном и Жгенти втащили тяжелый, тепловатый труп Н. А. в полосатой спальной пижамке на стол. Кажется, в этом костюме Н. А. и похоронили.
Твардовский
«Чудь белоглазая» называл его начитанный в летописях Асеев. И действительно, у Твардовского были совершенно белые глаза. На круглом женском лице, наверное, красивом. Татьяна Алексеевна Паустовская, на которую он был очень, по-братски похож, считалась известной красавицей.
Молодым я его не знал, не видел, а портрет Сары Лебедевой представляет вдумчивого юношу, деревенского отличника[98].
Росту он был высокого и на моей памяти, т. е. с середины пятидесятых годов, — грузен, болезненно тяжеловесен. Вдвоем с Сурковым глубокой ноябрьской ночью (1965) мы тащим его пьяного по аэродрому; и до этого, быстро напиваясь, он приваливался к моему плечу, так что вес его я хорошо помню. Худея, он быстро хорошел, и темно-серые волосы, очень обильные, шли к загорелому лицу. Таким я его видел в последний раз в Союзе писателей на партсобрании — подтянутым, моложавым, загоревшим.
Первое отчетливое о нем воспоминание — лето 1936, наверное, года. Я иду через весь город в библиотеку, чтобы прочитать в свежей «Красной нови» «Страну Муравию». Поэма мне не понравилась. Коллективизацию я видел близко. Ее волны омывали харьковский Конный базар, на котором мы жили. В поэме не было ни голода, ни ярости, ни ожесточенности ни в той степени, как в жизни, ни в той степени, как в поэмах Павла Васильева или у Шухова и Шолохова. Не понравилась мне и технология, фактура, изобразительная сторона. Выученикам футуристов и Сельвинского все это, естественно, казалось чересчур простеньким.