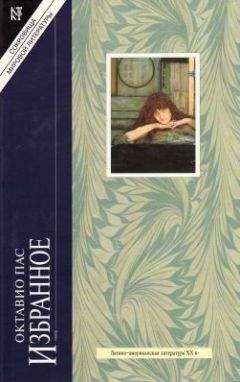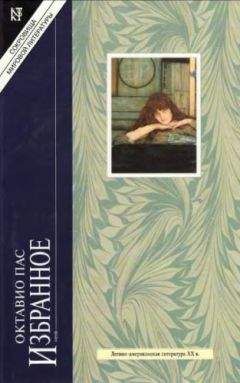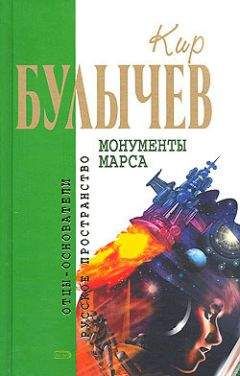Октавио Пас - Освящение мига
Языки суть более масштабная реальность, нежели политические и исторические целостности, которые мы именуем нациями. Возьмем в качестве примера европейские языки. на которых говорим мы в Америке. С этими языками связано особое положение наших литератур по отношению к литературам Англии, Испании, Португалии и Франции: наши литературы написаны на языках, пересаженных на чужую почву. Ведь язык рождается и взрастает на определенной почве, его питает общая история. Вырванные из родной почвы и собственной традиции, перенесенные и неведомые и еще безымянные земли, европейские языки пустили в них корни, взросли вместо с обществами американского континента и преобразились. Это то же растение и не то. Для наших литератур перемены, происшедшие с пересаженными языками, не прошли бесследно: литературы разделили судьбу языков и сами подстегнули процесс трансформации. Очень скоро наши литературы перестали быть просто заокеанским эхом, им даже случалось спорить с европейскими литературами, но чаще они им подражали.
Как бы то ни было, связь литератур никогда не прерывалась. Мои классики — это классики, пишущие на моем языке, и я ощущаю себя потомком Лопе и Кеведо, как любой испанский писатель… но я не испанец. Я думаю, что то же самое может сказать большая часть латиноамериканских писателей, да и писатели из Соединенных Штатов, Бразилии и Канады могли бы сказать то же самое по отношению к английской, португальской и французской традиции. Для того чтобы лучше понять особую ситуацию писателей Америки, присмотримся к диалогу, который ведут с той или иной европейской литературой японские, китайские или арабские писатели: это диалог различных цивилизаций через различные языки. Но наш диалог осуществляется внутри одного языка. Мы европейцы и неевропейцы. Кто же мы? Так трудно определить, кто мы такие. Впрочем, наши творения говорят за нас.
Появление литератур в Америке стало великим событием в культурной жизни нашего века. Сначала появилась англо-американская литература, а позже, во второй половине XX века, литература Латинской Америки, две большие ее ветви — испано-американская и бразильская. При том что они очень разные, эти три литературы имеют одну общую черту. Эта черта — скорее идеологическая, чем литературная борьба между космополитическими и почвенными тенденциями, между европеизмом и американизмом. Что ныне осталось от этих распрей? Они забылись, остались творения. Но, помимо этого, различия между тремя литературами глубоки и многочисленны. Одно из них более исторического свойства, чем литературного: развитие англо-американской литературы совпадает по времени с превращением Соединенных Штатов в мировую державу, в то время как становление нашей происходит в период смут и социально-политической нестабильности. И в этом я вижу еще одно доказательство ограниченности социально-исторического детерминизма. Закат империй и общественные потрясения иногда сосуществуют с великими творениями и расцветом искусства и литературы: Ли Бо и Ду Фу были свидетелями падения династии Тан, Веласкес был живописцем Филиппа IV, Сенека и Лукан — современниками и жертвами Нерона{1}. Прочие отличия — уже собственно литературного свойства — больше относятся к конкретным произведениям, чем к характеру литератур. Да и есть ли у литератур характер, обладают ли они какой-то совокупностью общих признаков, отличающих одну литературу от другой? Не думаю. Литература вовсе не определяется каким-то химерическим, неуловимым характером. Она представляет собой сообщество уникальных произведений, связанных отношениями противостояния и сродства.
В основе несходства латиноамериканской и англо-американской литератур лежит различие их происхождения. Все мы начинались как проекция Европы. Но они явились с острова, а мы — с полуострова. Два необычных региона в географическом, историческом и культурном смыслах. За ними — Англия и Реформация, за нами — Испания, Португалия и Контрреформация. Стоит ли останавливаться, анализируя испано-американскую ситуацию, на том, что отличает Испанию от других европейских наций и предопределяет значительность и оригинальность ее исторического лица? Испания не менее причудлива, чем Англия, хотя и на свой лад. Английская эксцентричность островного происхождения, ее отличительное свойство — обособленность, это эксцентричность замкнутости. Испанская эксцентричность полуостровного происхождения, для нее типично сосуществование разных цивилизаций и различных временных этапов, это эксцентричность разомкнутости. Ведь там, где позже возникнет католическая Испания, вестготы проповедовали арианскую ересь{2}, не говоря уж о веках господства арабской цивилизации, о влиянии иудейской мысли, о реконкисте и других особенностях.
В Америке эта испанская эксцентричность воспроизводится и приумножается, причем особенно в странах с блестящей древней цивилизацией, таких как Мексика и Перу. Ведь испанцы обнаружили в Мексике не только географию, но и историю. И эта история еще жива: она не прошлое, она настоящее. Доколумбова Мексика с ее храмами и богами лежит в развалинах, но дух, который одушевлял этот мир, не умер. Он является нам в сокрытом языке мифов, в легендах, формах совместной жизни, в народном искусстве и обычаях. Быть мексиканским писателем — значит слышать, что нам говорит это настоящее, это предстояние духа. Внимать ему, говорить с ним, выявлять его — проговаривать его…
И быть может, это краткое отступление поможет нам разобраться в странных отношениях, которые в одно и то же время связывают нас с европейской традицией и отгораживают от нее.
Сознание собственной обособленности — неизменный мотив нашей духовной истории. Иногда мы ощущаем эту обособленность как рану, как внутренний разлад, разорванное сознание, побуждающее нас к самоанализу, меж тем как в других случаях она воспринимается нами как вызов, как стимул к действию, как приглашение выйти навстречу другим и миру. Само собой разумеется, ощущение обособленности — чувство универсальное и ни в коей мере не является привилегией испано-американцев. Оно рождается одновременно с нами, это ощущение того, что связи разорваны и вы выброшены в чужой мир. И этот болезненный опыт — отныне незаживающая язва. Но ведь эта бездна и составляет человека. Всякое действие, предпринятое нами, все, что мы делаем и о чем мечтаем, — по сути, мосты, которые мы наводим с целью сломать одиночество и приобщиться к миру и себе подобным. С этой точки зрения жизнь каждого человека и коллективная история всех людей могут рассматриваться как попытка реконструировать изначальную ситуацию. Вечно осуществляемая неосуществимая попытка излечиться от разлада и разлученности. И больше я не намерен возвращаться к описанию этого ощущения. Но хочу подчеркнуть, что у нас его чаще всего фиксируют при помощи исторической терминологии. И таким образом оно превращается в наше историческое сознание. Когда и как появляется это ощущение и как оно преображается в сознание? Ответ на этот двойной вопрос может быть дан и в виде теории, и в форме личного свидетельства. Я предпочитаю второе: существует множество теорий, и ни одна из них не является полностью достоверной.
Ощущение одиночества возникает у меня в памяти среди самых ранних и смутных воспоминаний наряду с первым плачем и первыми страхами. Как все дети, я выдумывал про себя разные истории, и они, словно мосты, соединяли меня с другими людьми, с миром. Я жил в пригороде Мехико в старом, разваливающемся доме с диким, заросшим садом и большой комнатой, заваленной книгами. Там протекли первые игры, там я получил первый жизненный опыт. Сад стал для меня средоточием мира, а библиотека — заколдованной пещерой. Я читал и играл с двоюродными братьями и одноклассниками. Там была смоковница — зеленый шатер, а еще — четыре сосны, три ясеня, кактус «царица ночи», гранат, лужайки, колючки, оставлявшие темно-лиловые царапины. Глинобитные стены. Время было упругим, пространство вращалось. Точнее, все времена, реальные и воображаемые, сливались в одно «сейчас», но и пространство, в свою очередь, бесконечно преображалось: там было здесь, и вообще все было здесь: долина, гора, далекая страна, соседский дворик. А книги с картинками, особенно по истории, которые мы жадно листали, давали пищу нашему воображению: пустыни и сельва, дворцы и хижины, воины и принцессы, нищие и цари. Мы терпели кораблекрушения вместе с Синдбадом и Робинзонам, сражались вместе с д'Артаньяном, брали Валенсию с Сидом. А как мне хотелось остаться на острове Калипсо! В летнее время смоковница покачивала своими зелеными ветвями так, словно это были паруса каравеллы или пиратского судна. С этой высокой мачты, обдуваемый ветрами, я открывал острова и континенты — земли, исчезавшие, стоило только на них ступить. Этот бескрайний мир всегда оказывался под рукой, и время тянулось сплошным настоящим, без разрывов.