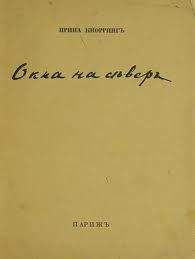Ирина Кнорринг - После всего. третья книга стихов (посмертная)
12-II-36
PROVINS
Под темным полночным покровом,
Чуть светит пятно фонаря.
Над городом средневековым
Тяжелые звезды горят.
Старинные стены и башни,
Прижатые в вечность дома.
На улочке древней и страшной —
Тяжелая, древняя тьма.
Сплетает усталость ресницы,
В руке неподвижна рука.
Вдали полыхают зарницы
И смотрят из черной бойницы
Нам вслед неживые века.
Над городом — вечным сияньем —
Тяжелая звездная твердь.
И где-то — тяжелым молчаньем —
Уже недалекая смерть.
7-VII-36
«Я покину мой печальный город…»
Я покину мой печальный город,
Мой холодный, неуютный дом.
От бесцельных дел и разговоров
Скоро мы с тобою отдохнем.
Я тебя не трону, не встревожу.
Дни пойдут привычной чередой.
Знаю я, как мы с тобой несхожи,
Как тебе нерадостно со мной.
Станет дома тихо и прилично, —
— Ни тоски, ни крика, ни ворчни…
Станут скоро горестно-привычны
Без меня кружащиеся дни…
И стараясь не грустить о старом,
Рассчитав все дни в календаре,
Ты один поедешь на Луару
В призрачно-прозрачном сентябре.
И вдали от горестной могилы,
Где-то там, в пути, на склоне дня,
Вдруг почувствуешь с внезапной силой,
Как легко и вольно без меня.
11-XII-36
«Считать толково километры…»
Считать толково километры,
По карте намечая путь,
Учесть подъемы, силу ветра.
Что посмотреть. Где отдохнуть.
Решить внимательно и строго,
Что можно брать с собой, что — нет.
Вязать пуловеры в дорогу
И чистить свой велосипед.
Мечтать о воздухе хрустальном,
О тишине лесов и рек,
О городке провинциальном,
Где будет ужин и ночлег.
И в настроении прекрасном
На карту заносить пути, —
Пока не станет слишком ясно,
Что больше некуда идти.
10-II-37
«Деревья редкие мелькают…»
Белеет парус одинокий…
Деревья редкие мелькают,
Да деревянные столбы.
Рулем упрямо управляет
Рука бессмысленной судьбы.
И с каждым поворотом — круче
Упрек свивается узлом.
Дорожной грустью неминучей
Большие стекла занесло.
Давно перемешались сроки,
Вся жизнь какой-то чад, угар…
Как в море — парус одинокий,
в полях скользящий автокар.
И пусть ему уж нет возврата
В покинутые города.
А сердце сковано и сжато,
Железным словом «никогда».
И пусть еще в порывах ветра
Звучит прощальное «вернись».
И с каждым новым километром
все дальше конченные дни, —
Ведь так легко теряя память,
среди безжизненных полей,
Нестись спокойно и упрямо
Навстречу гибели своей.
1-V-40
ЮРИЮ
Два быстрых дня, вернее — полтора,
А между ними — леденящий ветер.
Кафе, да улицы — так до утра,
И холод у вокзала на рассвете.
Прозрачный сумрак в улицах пустых,
Когда мы снова шли, — и коченели
И первый луч, проникший сквозь кусты,
Застывший на стволе высокой ели.
Пустынный лес. И холод без конца.
И радость, наполняющая сердце.
Две тени у дворцового крыльца
В бессмысленной надежде — отогреться.
Потом — большой торжественный, дворец
(Ведь это стоит многих километров!)
И это солнце, солнце, наконец,
Наперекор отчаянью и ветру!
Огромный лес таинственный в глуши,
Где дьяволом разбросанные скалы.
И снова хруст велосипедных шин,
И двое нас — веселых и усталых…
И — все. Чтоб много месяцев потом
Мне вспоминать о ночи у вокзала,
О холоде, о радости вдвоем,
И сожалеть бессмысленно о том,
Что этого не повторить сначала.
30-V-39
ОКНО В СТОЛОВОЙ
Снова — ночь. И лето снова.
(Сколько грустных лет!)
Я в накуренной столовой
Потушила свет.
Папироса. Пламя спички.
Мрак и тишина.
И покорно, по привычке
Встала у окна.
Сколько здесь минут усталых
Молча протекло!
Сколько боли отражало
Темное стекло.
Сколько слов и строчек четких
И ночей без сна
Умирало у решетки
Этого окна…
В отдаленьи — гул Парижа
(По ночам — слышней).
Я ведь только мир и вижу,
Что в моем окне.
Вижу улицу ночную,
Скучные дома,
Жизнь бесцветную, пустую,
Как и я сама.
И когда тоски суровой
Мне не превозмочь, —
Я люблю окно в столовой,
Тишину и ночь.
Прислонюсь к оконной раме
В темноте ночной,
Бестолковыми стихами
Говорю с тобой.
И всегда тепло и просто
Отвечают мне
Наши камни, наши звезды
И цветы в окне.
26-VI-38
ЛИЛЕ
Свой дом. Заботы. Муж. Ребенок.
Большие трудные года.
И от дурачливых девченок
Уж не осталось и следа.
Мы постарели, мы устали,
Ни сил, ни воли больше нет.
А разве так мы представляли
Себе вот эти десять лет?
Забыты страстные «исканья»,
И разлетелось, словно дым,
Все то, что в молодости ранней
Казалось ценным и святым.
Жизнь отрезвила. Жизнь измяла,
Измаяла. На нет свела.
В кафе Латинского квартала
Нас не узнают зеркала.
…А где-то в пылком разговоре
Скользит за часом шумный час.
А где-то вновь до ссоры спорят —
Без нас, не вспоминая нас…
Уходит жизнь. А нас — забыли.
И вот уж ясно навсегда,
Как глупо мы продешевили
Испепеленные года.
1-II-38
«Когда сердце горит от тревоги…»
Когда сердце горит от тревоги,
А глаза холоднее, чем сталь, —
Я иду по парижской дороге
В синеватую, мглистую даль.
Начинает дождливо смеркаться,
Тень длиннее ложится у ног.
Никогда не могу не поддаться
Притягательной власти дорог.
Как люблю я дорожные карты,
Шорох шин, и просторы, и тишь…
А куда бы не выйти из Шартра —
Все дороги уводят в Париж.
И часами безмолвно и строго,
Плохо скрыв и волненье, и грусть,
Я смотрю на большую дорогу,
По которой назад не вернусь.
14-X-39
Шартр
«О чем писать? О лете, О Бретани…»
О чем писать? О лете, О Бретани?
О грузном море у тяжелых скал,
Где рев сирен (других сирен!) в тумане
На берегу всю ночь не умолкал.
О чем еще? О беспощадном ветре,
О знойной и бескрайней синеве,
О придорожных столбиках в траве,
Считающих азартно километры?
О чем? Как выезжали утром рано
Вдоль уводящих в новизну дорог?
И как старик, похожий на Бриана,
Тащился в деревенский кабачек?
Как это все и мелко и ничтожно
В предчувствии трагической зимы.
И так давно, что просто невозможно
Поверить в то, что это были мы.
Теперь, когда так грозно и жестоко,
Сквозь нежный синевеющий туман,
На нас — потерянных — летит с востока
Тяжелый вражеский аэроплан.
22-X-39
Шартр
ПАМЯТИ ЖЕРМЭН