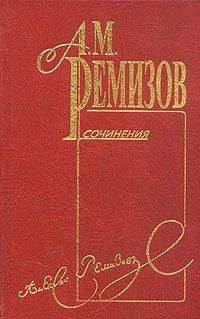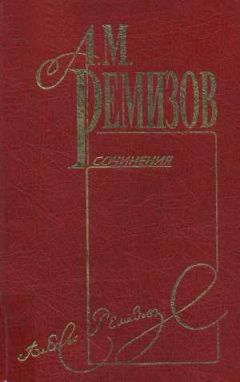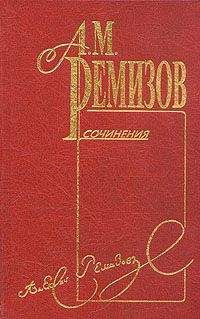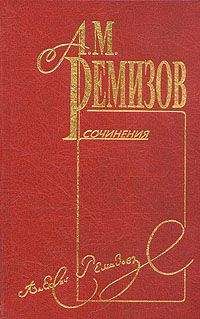Алексей Ремизов - Избранное
Влияние творчества В. М. Васнецова, Н. К. Рериха и древнерусской живописи, в особенности иконы, сказалось даже в архитектуре тех лет, в «русском модерне» (здание Исторического музея, Казанский вокзал в Москве, построенное в 1913 году в виде старинных палат здание Нижегородского банка с росписями И. Я. Билибина).
Ремизов тоже собрал в «Посолони», очистив от сюжета, от назидательности, образы славянской языческой нечисти: кикимор, калечин-малечин, билибошек, персонажей из свиты Кащея, и поместил их в необычное красочное и звуковое пространство. «Слово, звук и цвет – одно. То, что звучит, то и цветет», – говорит он. И доныне не потускнели, не выцвели краски этого чудесного, будто расшитого полотна: «Зацвели белые и алые маки. Голубые цветочки шелкового льна морем разлились по полю. Белая греча запорошила прямым снегом без конца все пути. Встали по тыну, как козыри, золотые подсолнухи. Сухим золотом-стрелками затеплилась липа, а серебряные овсы и алатырное жито раскинулись и вдаль и вширь; неоглядные, обошли они леса да овраги, заняли округ небесную синь и потонули в жужжанье и сыти дожатвенной жажды» («Черный петух». Здесь и далее выделено мной. – В. Ч.).
Современники прекрасно почувствовали густоту, плотность красок ремизовской «Посолони», близость его образов к живописи «Мира искусства», отчасти примитивистов. Стихийная жизнь природы обрела свой язык в «Посолони», язык, требующий повышенного внимания, активного постижения. «Лес в пожаре горит и горит», «собиралась заря в восход взойти»; «шумный колос стелет по ниве сухое время» – подобный язык не имеет «пустот», зияний, он весь состоит из бликов, корней слов.
В сказках «Медведюшка» и «Змей» звучит мысль о вечности и неистребимости жизни, о том, что никому нельзя запретить цвести и радоваться на мир Божий: ни цветку, ни зверюшке, ни малой пташке. Сколько доброй иронии в «совете» дятла медвежонку: «Человека остерегайся, глупыш!.. Человеки тебя в цепь закуют. Вон Скворца Скворцовича изловили, за решеткою теперь, воли не дают. Летал к нему – „Жив, – пищит, – корму вдосталь, да скучно“. У них все вот так!» И по сравнению с этим естественным хрупким миром природы мир игрушек становится детям скучным: «Игрушкам тоже зима надоела».
Никого из друзей Ремизова не обманула детскость, простодушие пересказа, прирученность всех бесов, бесенят, кикимор, черных петухов, змеи Скоропеи или Ильи-Громовика. А. Блок в 1910 году в статье «Противоречия» заметил, что улыбка Ремизова лишь внешне детская, утешающая, приглашающая забыть про страшный мир. На самом деле он всегда показывает нам «весьма реальный клочок нашей души, где все сбито с панталыку, где все в невообразимой каше, летит к черту на кулички».
По мере приближения бури – войны 1914 года, двух революций 1917 года – Алексей Ремизов продолжал и углублял свою «реконструкцию» сказочных и христианских миров в духе особого, не официозного, а «народного христианства», имевшего часто языческие корни. Он настойчиво утверждал, что Русь не знала и не узнает мук «богооставленности», что ее не покинут все святые, в Русской земле просиявшие, что их заветы живут в обрядах, играх, суевериях, балагурье, притчах, пословицах, сказках. Но излагал он эти идеи весьма своеобразно. Вместо канонической Троицы – как на известной иконе Андрея Рублева – он прославлял иную, более земную, народно-христианскую Троицу – это Христос, Богородица, Никола Мирликийский (покровитель Руси). В его книгах «Николины притчи» (1917) и «Россия в письменах» (1917), Никола-угодник, добрый седенький старичок с посохом в руках, обходит Русскую землю. Он опаздывает на совет к Илье-пророку, главному из русских святых.
«– Что, Никола, что запоздал так? – спросил Илья. – Или и для праздника переправляешь души человеческие с земли в рай?
– Все с своими мучился, – отвечал Никола, присаживаясь к святым за веселый золотой стол, – пропащий народ: вор на воре, разбойник на разбойнике, грабят, жгут, убивают, брат на брата, сын на отца, отец на сына! Да и все хороши, друг дружку поедом едят.
– Я нашлю гром-молнию, попалю, выжгу землю! – воскликнул громовный Илья.
– Я росы им не дам! – поднялся Егорий.
<…>
– Смерть на них! – стал Михайло-архангел с мечом.
– Велел мне ангел Господень истребить весь русский народ, да простил я им, – отвечал наш Никола Милостивый, – больно уж мучаются.
И, восстав, поднял чашу во славу Бога Христа…» («Никол а-угодник»).
Пожалуй, в подобных изложениях мифов, поверий, в этих «заботах святых о бестолковых детях России», в тревогах: да что же еще они натворят со своей жаждой пострадать за всех! – звучала уже тема и «Окаянных дней» (1917) И. Бунина, и «Несвоевременных мыслей» (1917–1918) М. Горького, и даже «Солнца мертвых» (1923) И. Шмелева. Ремизов словно предвидел трагический слом русской истории в 1917 году.
И не случайно уже после Февральской революции писатель одним из первых попытался «образумить» стихию слепого бунта, жуткого и безоглядного разрушительства (не отвергая самой идеи борьбы за свободу, за раскрепощение народа, идею обновления России). Дух справедливости, боли и надежды не умирал в нем. И в полной мере он выразился в двух неожиданных, новых для тогдашней прозы и поэзии произведениях, шедеврах лироэпической публицистики, поэмах в прозе – «Слове о погибели Русской земли» (1917) и «Заповедном слове русскому народу» (1918). Подобно А. Блоку (в поэме «Двенадцать») Ремизов увидел не идеализированный народ, не условного «человека с ружьем», а «взвихренную Русь», суровый Петроград, где действует лозунг: «Грабь награбленное». И обратился к старинному жанру плачей.
Чтобы в должной мере оценить беспокойный, надрывный язык этих плачей, написанных в духе причитаний, молений, слезных вопрошаний, надо помнить, что они адресованы к читателю (и слушателю), опьяненному риторикой митингов, агиток, листовок. Ровным, спокойным тоном с такой аудиторией говорить нельзя. Эти плачи обращены либо прямо к Руси («О, моя родина обреченная, пошатнулась ты, непоколебимая»), либо к усталому, растерянному народу, запутавшемуся среди лозунгов, утратившему путь среди политических «мигалок» («Русский народ, что ты сделал? Искал свое счастье и все потерял. Одураченный, плюхнулся свиньей в навоз. <…> Землю ты свою забыл колыбельную»).
Плачи – это вид бессюжетной, лирической, «орнаментальной» (т. е. узорной, украшенной, с повторами) прозы. Такая напевная проза вообще возникала на Руси в час катастроф или накануне их. И потому словесные фрески Ремизова напоминают картины Страшного суда.
У ремизовского «Слова о погибели Русской земли» обширнейший литературный и общественный контекст – от «Апокалипсиса нашего времени» (1917–1919) В. Розанова до поэмы «Двенадцать» (1918) А. Блока. Впрочем, даже сугубо интимные дневники многих выдающихся современников Ремизова в 1916–1917 годах тоже были окрашены трагической патетикой и риторикой отпевания России, гибели ее, конца света. Об этом свидетельствуют, например, «Петербургские дневники» 3. Н. Гиппиус 1914–1919 годов, где без конца звучат восклицания и моления:
«Бедная Россия. Да опомнись же!» (22 февраля 1917)
«Бедная земля моя. Очнись!» (23 февраля 1917)
«Неужели – поздно?
…И вот Господь неумолимо
Мою Россию отстранит…»
Как возникло такое «апокалиптическое» мироощущение у людей из окружения Ремизова, у многих представителей петербургской интеллигенции, не исключая и М. Горького, автора «Несвоевременных мыслей»? Ведь многие из них и в 1905 году, и задолго до него, в годы затишья, «страшного мира», буквально призывали очистительную бурю, ждали революцию, на свой лад звали Русь к топору. Увы, «мечта была мила как дальность» (В. Брюсов). Реальная революция оказалась не просто грубей, кровопролитней, но – такова ирония истории! – часто, во многих случаях вопреки воле В. И. Ленина, А. В. Луначарского и других ее вождей и сторонников, даже враждебной изысканной культуре А. Блока, С. Рахманинова, Ф. Шаляпина… Гибель же культуры, духовно-нравственных основ народа и предстала перед Ремизовым как гибель Русской земли. Не будем бояться его гипербол.
Стиль «Слова…», его патетика, весь эмоционально-образный строй тоже имеют свой контекст. Февральская революция 1917 года породила (и пробудила) в сознании петербургской интеллигенции чрезвычайно много специфически художественных видений, грез, «знаковых» – идущих от образов библейского потопа, конца света, нашествия гуннов или монголов – систем катастрофы. Язык книги, уроки многолетнего чтения были у всех на слуху…
О Революция, о Книга между книг!
Слепили кровь и грязь высокие страницы.
И, как набат, звучит твой яростный язык,
Но нет учителя и некому учиться…
Не в зареве домов за письменным столом —
На черной площади, под барабанным боем
Мы книгу грозную, как знамя, понесем,
Но святотатственно ее мы не раскроем.
Какая истина в твоей неправде есть?
Пустыня странствия нам суждена какая?
Сквозь мертвые пески, сквозь Голод, Славу, Месть
Придем ли наконец к вратам небесным Рая? —
так вдохновенно, опираясь бесспорно на Священное Писание, писала в те судьбоносные годы поэтесса Ел. Полонская. Революция для нее – это странствие через пустыню к земле обетованной и одновременно «Книга», полная загадочных знаков, символов веры. Она же – и конец света, и рождение новых миров.