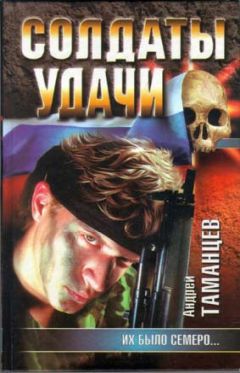Ирина Кнорринг - Стихи о себе
1930
«Опять о том же: о годах войны…»
Опять о том же: о годах войны,
О грохоте уродливых орудий,
О чёрном дыме в синеве весны,
О том, что было и чего не будет.
Как шли в атаку, брали города,
Снаряды рыли вспаханную землю.
О пафосе, который навсегда
— До самой смерти — свеж и неотъемлем.
И только я средь пламенных людей
— Не возражая, не кляня, не споря, —
Твержу о несмываемом стыде
И о неискупаемом позоре.
1930
«Ты мечтаешь: „Вот вернусь домой…“»
Ты мечтаешь: «Вот вернусь домой,
Будет чай с малиновым вареньем,
На террасе — дрогнувшие тени,
Синий, вечереющий покой.
Ты с мальченкой ласково сидишь…
Занят я наукой и искусством…
Вспомним мы с таким хорошим чувством
Про большой и бедственный Париж.
Про неповторимое изгнанье,
Про пустые мертвенные дни…
Загорятся ранние огни
В тонком, нарастающем тумане…
Синий вечер затенит окно,
А над лампой — бабочки ночные»…
— Глупый друг, ты упустил одно:
Что не будет главного — России.
1930
«А я живу. Лениво говорю…»
А я живу. Лениво говорю.
Пишу стихи о пустоте и скуке.
Встречаю хмуро по утрам зарю,
С зарей вечерней опускаю руки.
А я смотрю в бесформенную тьму,
В ночную тьму, и я томлюсь и плачу.
И никогда, должно быть, не пойму,
Что этот мрак, что этот холод значит…
Я буду жить пустынные года,
Растрачу молодость, любовь и силы.
И даже не узнаю никогда,
Чего хотела и кого любила.
1930
«В этом старом, убогом отеле…»
В этом старом, убогом отеле,
В никому ненужных трудах,
За неделей скользит неделя,
За годами скользят года.
Здесь мы медленно забываем,
Что вся жизнь могла быть иной.
Никогда не обещанным раем
Не смущаем наш сон и покой.
Здесь мы плачем, смеемся, стонем.
Здесь мы старимся — я и ты,
В этом старом, ненужном доме,
В безысходности пустоты.
Вот луна поднялась на крыши…
Как печален вечерний час!
Оттого, что и Бога не слышит,
Никогда не услышит нас.
1931
«И вовсе не высокая печаль…»
И вовсе не высокая печаль,
И не отчаянье сдвигало брови…
— Весь вечер ныли, долго пили чай,
И долго спорили о Гумилеве.
Бросали столько безответных слов,
— Мы ссорились с азартом, и без толку.
Потом искали белый том стихов
Повсюду — на столе, в шкафу. на полках.
И не нашла. И спорили опять.
Стихи читали. Мыкались без дела.
И почему-то не ложились спать,
Хоть спать с утра мучительно хотелось.
День изо дня, — и до каких же пор?
Все так обычно, так совсем не ново,
И этот чай, и этот нудный спор
О Блоке и таланте Гумилева.
1930
«Печального безумья не зови…»
Печального безумья не зови.
Уйдем опять к закрытым плотно шторам,
К забытым и ненужным разговорам
О вечности, о славе, о любви.
Пусть за стеной шумит огромный город, —
У нас спокойно, тихо и тепло,
И прядь волос спускается на лоб
От ровного и гладкого пробора.
Уйдем назад от этих страшных лет,
От жалких слез и слов обидно-колких,
Уйдем назад — к забытой книжной полке,
Где вечно — Пушкин, Лермонтов и Фет.
Смирить в душе ненужную тревогу,
Свою судьбу доверчиво простить,
И ни о чем друг друга не просить,
И ни на что не жаловаться Богу.
1931
«Только память о страшной утрате…»
Только память о страшной утрате,
Неживой и покорный недуг.
Я люблю мое темное платье
И усталость опущенных рук.
Я люблю мою комнату-келью,
Одиночество и пустоту,
И мое неживое похмелье,
И мою — неживую — мечту.
Кто-то жизнь мою горько возвысил
Стали дни напряженно-тихи.
Только — пачка нетронутых писем
И мои неживые стихи.
1931
Баллада о двадцатом годе
Стучали колеса…
«Мы там… мы тут»…
Прицепят ли, бросят?..
Куда везут?..
Тяжелые вещи
В темных углах…
На холод зловещий
Судьба взяла.
Тела вповалку,
На чемоданах…
И не было жалко,
И не было странно…
Как омут бездонный
Зданье вокзала,
Когда по перрону
Толпа бежала.
В парадных залах
Валялись солдаты…
Со стен вокзала
Дразнили плакаты…
На сердце стоны:
Возьмут?.. Прицепят!..
Вагоны, вагоны —
Красные цепи.
Глухие зарницы
Последних боев.
Тифозные лица
Красных гробов.
Берут, увозят
Танки и пушки
Визжат паровозы,
Теплушки, теплушки.
Широкие двери
Вдоль красной стены.
Не люди, а звери
Там спасены.
Тревожные вести
Издалека.
Отчаянья мести
В сжатых руках.
Лишь тихие стоны.
Лишь взгляд несмелый,
Когда за вагоном
Толпа ревела.
Сжимала сильнее
На шее крестик.
О, только б скорее!
О, только б вместе!
Вдали канонада.
Догонят?.. Да?..
Не надо, не надо.
О, никогда!..
Прощальная ласка
Веселого детства —
Весь ужас Батайска,
Безумие бегства.
Как на острове нелюдимом,
Жили в маленьком Туапсе.
Корабли проходили мимо,
Тайной гор дразнили шоссе.
Пулемет стоял на вокзале…
Было душно от злой тоски.
Хлеб но карточкам выдавали
Кукурузной, желтой муки.
Истомившись в тихой неволе,
Ждали — вот разразится гроза…
Крест зеленый на красном поле
Украшал пустынный вокзал.
Было жутко и было странно
С наступлением холодной тьмы…
Провозили гроб деревянный
Мимо окон, где жили мы.
По-весеннему грело солнце.
Теплый день наступал не раз…
Приходили два миноносца
И зачем-то стреляли в нас.
Были тихи тревожные ночи,
Чутко слушаешь, а не спишь.
Лишь единственный поезд в Сочи
Резким свистом прорезывал тишь.
И грозила кровавой расплатой
Всем, уставшим за тихий день,
Дерзко-пьяная речь солдата
В шапке, сдвинутой набекрень.
Тянулись с Дона обозы,
И не было им конца.
Звучали чьи-то угрозы
У белого крыльца.
Стучали, стонали, скрипели
Колеса пыльных телег…
Тревожные две недели
Решили новый побег.
Волнуясь, чего-то ждали,
И скоро устали ждать.
Куда-то еще бежали
Дымилась морская гладь.
И будто бы гул далекий,
Прорезав ночную мглу,
Нам вслед звучали упреки
Оставшихся на молу.
Ползли к высокому молу
Тяжелые корабли.
Пронизывал резкий холод
И ветер мирной земли.
Дождливо хмурилось небо.
Тревожны лица людей.
Бродили, искали хлеба
Вдаль Керченских площадей.
Был вечер суров и долог
Для мартовских вечеров.
Блестели дула винтовок
На пьяном огне костров.
Сирена тревожно и резко
Вдали начинала выть.
Казаки в длинных черкесках
Грозили что-то громить.
И было на пристани тесно
От душных, скорченных тел.
Из черной, ревущей бездны
Красный маяк блестел.
Нет, не победа и не слава
Сияла на пути…
В броню закопанный дреднаут
Нас жадно поглотил.
И люди шли. Их было много.
Ползли издалека.
И к ночи ширилась тревога
И ширилась тоска.
Открылись сумрачные люки.
Как будто в глубь могил.
Дрожа, не находили руки
Канатов и перил.
Пугливо озирались в трюмах
Зрачки незрячих глаз.
Спустилась ночь, — страшна, угрюма.
Такая — в первый раз.
Раздался взрыв: тяжелый, смелый.
Взорвался и упал.
На темном берегу чернела
Ревущая толпа.
Все были, как в чаду угара,
Стоял над бухтой стон.
Тревожным заревом пожара
Был город озарен.
Был жалок взгляд непониманья.
Стучала кровь сильней.
Несвязно что-то о восстанье
Твердили в стороне.
Одно хотелось: поскорее
И нам уйти туда.
Куда ушли, во мгле чернея,
Военные суда.
И мы ушли. И было страшно
Среди ревущей тьмы.
Три ночи над четвертой башней.
Как псы, ютились мы.
А после в кубрик опускались
Отвесным трапом вниз.
Где крики женщин раздавались
И визг детей и крыс.
Там часто возникали споры:
Что — вечер или день?
И поглощали коридоры
Испуганную тень.
Впотьмах ощупывали руки
И звякали шаги.
Открытые зияли люки
У дрогнувшей ноги.
Зияли жутко, словно бездны
Неистовой судьбы.
И неизбежно трап отвесный
Вел в душные гробы.
Все было точно бред: просторы
Чужих морей и стран,
И очертания Босфора
Сквозь утренний туман.
По вечерам — напевы горна.
Торжественный обряд.
И взгляд без слов: уже покорный.
Недумающий взгляд.
И спящие вповалку люди,
И черная вода.
И дула боевых орудий,
Умолкших навсегда.
Бизерта. 1924.