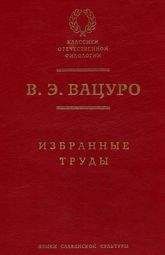Константин Симонов - Друзья и враги (Стихи)
Нет!
Отбыв пять лет, последним утром он
В тюремную контору приведен.
Там ждет его из Токио пакет,
Где в каждом пункте только «да» и
«нет».
Признал ли он божественность Микадо?
Клянется ль впредь не преступать закон?
И, наконец: свои былые взгляды
Согласен ли проклясть публично он?
Окно открыто. Лепестки от вишен
Летят в него, шепча, что спор излишен.
Тюремщик подал кисточку и тушь
И молча ждет — ловец усталых душ.
Но, от дыханья воли только вздрогнув,
Не глядя на летящий белый цвет,
Упрямый каторжник рисует: «Нет!» —
Спокойный, как железо, иероглиф.
Рисует. И уходит на пять лет.
И та же вновь тюремная контора,
И тот тюремщик — только постарел,
И те же вишни, лепесток с которых
На твой халат пять лет назад присел.
И тот же самый иероглиф: «Нет!»,
Который ты рисуешь раз в пять лет.
И до конца войны за две недели,
О чем, конечно, ты не можешь знать,
Ты и тюремщик — оба поседели —
В конторе той встречаетесь опять.
Твои виски белы, как вишен цвет,
Но той же черной тушью: «Нет» и «нет»!
. . . . . .
Я увидал товарища Токуда
На митинге в токийских мастерских,
В пяти минутах от тюрьмы, откуда
Он вышел сквозь пятнадцать лет своих.
Он был неговорливый и спокойный,
Усталый лоб, упрямый рот,
Пиджак, в который, разбросав
конвойных,
Его одели прямо у ворот,
И шарф на шее, старый, шерстяной,
Повязанный рабочею рукой.
Наверно, он в минуту покушенья,
Всё в тот же самый свой пиджак одет,
Врагам бросал все то же слово: — Нет!
Нет! Нет! И нет! —
Как все пятнадцать лет
От заключенья до освобожденья.
И смерть пошла у ног его кружить
Не просто прихотью безумца злого,
А чтоб убить с ним вместе это слово —
Как будто можно Коммунизм убить.
Зимний
Я уезжал наутро, чуть заря,
Из той деревни севернее Токио,
Где я провел три зимние, жестокие
Дождливые недели февраля.
День прошагав вдоль рисовых полей,
Я вечером, с приливами, с отливами,
Вел длинный разговор с неторопливыми
Крестьянами над горсткою углей.
Дом, где я жил, был лишь условный знак
Жилья. Бумажный иероглиф бедности.
И дождь и солнце в предзакатной
медности
Его насквозь пронзали, просто так.
Снег пополам с дождем кропил поля,
И, с нестерпимой нищенской привычкою
В квадратики размерянная спичкою,
В слезах лежала мокрая земля.
Хозяин дома говорил о ней,
Исползанной коленями, исхоженной,
Заложенной, налогами обложенной,
И всё — за чашку риса на пять дней.
А в заключенье землю вспомнил он,
Где все уже навеки переменено,
Где я, вернувшись, Сталину и Ленину
От их деревни передам поклон.
Каков же революции порыв,
Куда достиг бессмертной силы ток ее,
Чтоб здесь, в деревне севернее Токио,
Был Сталин чтим и Ленин еще жив!
Из медных трубок выпуская дым,
Крестьяне замолчали от волнения,
И наступило странное мгновение,
Когда я вдруг почувствовал, что им
Всё, всё еще, бесспорно, предстоит:
«Аврора», бой среди рассвета дымного
И взятье императорского Зимнего —
Того, что в центре Токио стоит!
Военно-морская база в Майдзуре
Бухта Майдзура. Снег и чайки
С неба наискось вылетают,
И барашков белые стайки
Стайки птиц на себе качают.
Бухта длинная и кривая,
Каждый звук в ней долог и гулок,
Словно в каменный переулок,
Я на лодке в нее вплываю.
Эхо десять раз прогрохочет,
Но еще умирать не хочет,
Словно долгая жизнь людская
Все еще шумит, затихая.
А потом тишина такая,
Будто слышно с далекой кручи,
Как, друг друга под бок толкая,
Под водой проплывают тучи.
Небо цвета пепла, а горы
Цвета чуть разведенной туши.
Надоели чужие споры,
Надоели чужие уши.
Надоел лейтенант О’Квисли
Из разведывательной службы,
Под предлогом солдатской дружбы
Выясняющий наши мысли.
Он нас бьет по плечам руками,
Хвалит русские папиросы
И, считая всех дураками,
День-деньской задает вопросы.
Утомительное условье —
Каждый день, вот уже полгода,
Пить с разведчиком за здоровье
«Представляемого им народа».
До безумия осточертело
Делать это с наивным видом,
Но О’Квисли душой и телом
Всем нам предан. Вернее, придан.
Он нас будет травить вниманьем
До отплытия парохода
И в последний раз с содроганьем
Улыбнется нам через воду.
Бухта Майдзура. Птичьи крики,
Снег над грифельными горами,
Мачты, выставленные, как пики,
Над японскими крейсерами.
И немецкая субмарина,
Обогнувшая шар когда-то,
Чтоб в последние дни Берлина
Привезти сюда дипломата.
Волны, как усталые руки,
Тихо шлепают в ее люки.
Где теперь вы, наш провожатый,
Джемс О’Квисли, наш добрый гений,
Славный малый и аккуратный
Собиратель всех наших мнений?
Как бы, верно, вас удивила
Моя клятва спустя два года,
Что мне видеть там нужно было
Просто небо и просто воду,
Просто пасмурную погоду,
Просто северную природу,
Просто снега хлопья косые,
Мне напомнившие Россию.
Угадав этот частный случай,
Чем скитаться со мною в паре,
Вы могли бы гораздо лучше
Провести свое время в баре.
Ну, а в общем-то — дело скверно,
Успокаивать вас не буду:
Коммунизм победит повсюду!
Вы тревожьтесь! Это вы верно!
В корреспондентском клубе
Опять в газетах пишут о войне,
Опять ругают русских и Россию,
И переводчик переводит мне
С чужим акцентом их слова чужие.
Китайский журналист, прохвост из
«Нанкин Ньюс»,
Идет ко мне с бутылкою; наверно,
В душе мечтает, что я вдруг напьюсь
И что-нибудь скажу о «кознях
Коминтерна».
Потом он сам напьется и уйдет.
Все как вчера. Терпенье, брат, терпенье!
Дождь выступает на стекле, как пот,
И стонет паровое отопленье.
Что ж мне сказать тебе, пока сюда
Он до меня с бутылкой не добрался?
Что я люблю тебя? — Да.
Что тоскую? — Да.
Что тщетно я не тосковать старался?
Да. Если женщину уже не ранней
страстью
Ты держишь спутницей своей души,
Не легкостью чудес, а трудной старой
властью,
Где чтоб вдвоем навек — все средства
хороши,
Когда она — не просто ожиданье
Чего-то, что еще, быть может, вздор,
А всех разлук и встреч чередованье,
За жизнь мою любви с войною спор,
Тогда разлука с ней совсем трудна,
Платочком ей ты не помашешь
с борта,
Осколком родины в груди сидит она,
Всегда готовая задеть аорту.
Не выслушать… В рентген
не разглядеть…
А на чужбине в сердце перебои.
Не вынуть — смерть всегда таскать
с собою,
А вынуть — сразу умереть.
Так сила всей по родине тоски,
Соединившись по тебе с тоскою,
Вдруг грубо сердце сдавит мне рукою.
Но что бы делал я без той руки?
— Хэлло! Не помешал вам? Как дела?
Что пьем сегодня — виски, ром?
— Любое.—
Сейчас под стол свалю его со зла,
И мы еще договорим с тобою!
Дом на передовой
Уже японских ползимы
В корреспондентском клубе мы
Живем, почти как дипломаты,
Живем, обложенные ватой
Чужих вопросов и речей,
Чужих опасных мелочей
И, ждущих от тебя ошибок,
Чужих внимательных улыбок.
Смертельно вежливым огнем
Окружены мы день за днем.
Зато я снюсь себе ночами
С мешком и скаткой за плечами,
Покинув этот чортов дом,
Я обхожу весь мир пешком.
Похожий на тире и точки,
Звук дальней пулеметной строчки
Почти неслышною рукой
Меня ведет туда, где бой,
Туда, где, землю огибая,
В дыму идет передовая.
Начавшись у воды в упор,
Она идет меж рыжих гор,
И вьется из-за Пиренеев
Пороховой дымок над нею.
Она идет через Париж
Траншеей меж домов и крыш,
Безмолвно, но неотвратимо,
Проходит посредине Рима
И с «Партизанской» на устах
Гремит на греческих холмах.
То вся в огне, в аду, то в дымке,
То на виду, то невидимкой,
То в свисте бомб и громе танков,
То в катакомбах и землянках,
Она идет сквозь сорок стран —
То молча, то под барабан,
Под «Марсельезу» с «Варшавянкой»,
Под «Пролетарии всех стран!»
Теряясь, но не пропадая,
Она идет к полям Китая,
Туда, где на передовой
Сейчас всего слышнее бой.
К земле прикладывая ухо,
Я приближаюсь к ней по слуху,
За ночью ночь иду туда,
Где в вспышках горная гряда,
Где на дороги ледяные
В бессмертье падают живые
И, душу придержав рукой,
Дают посмертный выстрел свой.
Идет, идет передовая
Через жару и снег Китая.
Она, как битва под Москвой,
Владеет всей моей душой.
Она проходит под паркетом
Всех комнат даже в доме этом,
Где месяц мы едим и пьем
С врагами за одним столом;
Через беседы и обеды,
Через вопросы и ответы,
Стол разрубая пополам,
Она проходит по пятам,
Вдруг о себе напоминая
То журналистом из Шанхая,
Который врет про вас везде,
Что он вас видел у Чжу-Дэ,
То шпиком, лезущим в доверье,
То ухом в скважине за дверью,
То в чемодане под замком
Вдруг перевернутым бельем.
Когда-нибудь, когда нас спросят
Друзья: откуда эта проседь?
Мы вспомним дом, где той зимой
Мы жили на передовой.
Красная площадь