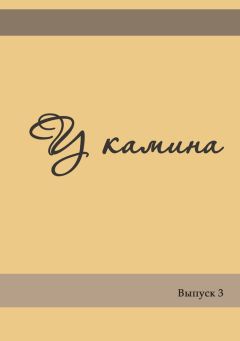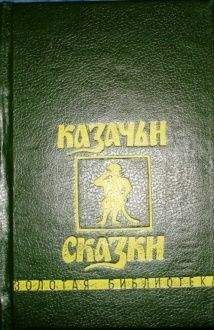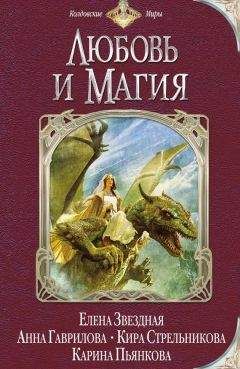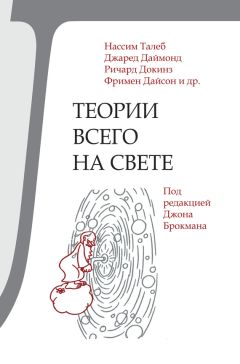Коллектив авторов - Живая вода времени (сборник)
Ведь в этой предрассветной пелене
Горит и светится заветная лучинка
И, может быть, тоскует обо мне.
Прощальное письмо
Памяти капитан-лейтенанта подлодки «Курск» Дмитрия Колесникова
Любимая, не забывай меня
Во тьме полночной и при свете дня.
Ладонью я прикрыл письмо к тебе,
Доверив и любовь, и боль судьбе.
Любимая, в последний смертный час
Я думаю о жизни и о нас.
Огнем объятая, душа моя,
Уже летит в небесные края.
Не плачь, с любовью вспоминай меня,
Судьбу благодаря, а не кляня.
Хочу из глубины, с небесной высоты
Смотреть, как жизни радуешься ты.
К друзьям и близким
Сгораю от невысказанных слов,
От нежности, не выраженной взглядом,
От неувиденных, но выстраданных снов,
Какие кто-то видел со мной рядом.
Страдаю от невыплаканных слез,
От непроявленного вовремя участья.
И грустно оттого, что сок берез
Отец уж не дает мне пить на счастье.
Я плачу от загубленных лугов,
Что память детства сохранила ярко,
От аромата сенного стогов
И от закатов, полыхавших жарко.
Сгораю от грехов и от стыда,
Обиды не храня, не помня злое…
Не поминайте меня лихом никогда.
За всех я помолюсь пред аналоем.
Борис Касаев
Карлик
I
Дежурный врач новозеланской городской больницы Андрей Босовицкий (в гневе):
– Где ты шлялась?! Где тебя носило?!
Дежурная медсестра Катюша Василискина (в ужасе):
– Андрюш, ей богу! На минутку… В сортир бегала… Вон еще крутится магнитофон…
Андрей (свирепея):
– Какой магнитофон?
Катюша:
– Ну… Попросил записаться на пленку… говорил – исповедь… Целая кассета на малой скорости… Вообще-то бред. Можешь послушать…
Разговор возник в два двадцать ночи в одноместной, с претензией на роскошь, больничной палате (помимо тумбочки в помещении красовались микрохолодильник «Морозко» и навеки умолкший телевизор «Березка») города Нового Зеланска поздней осенью 1990 года. На койке перед разгневанным врачом и испуганной медсестричкой покоилось сухое и крайне морщинистое, как ядро грецкого ореха, небольшое тельце старца, с рожками на лысой голове. Катюша не узнавала в нем своего собеседника: несколько минут назад на кровати лежал вполне еще бодрый, хоть и доходяга, старичок. Конечно, лежачий, но руками и ногами брыкался…
Андрей (смягчаясь):
– Чертовщина… Заглянул к тебе, думаю, как ты тут, – а он не дышит. Пульса нет. И на моих глазах – прямо жуть – меняется… на глазах! Кожа вся сморщилась, объем резко уменьшился. Смотри, у него и рога… Как ты думаешь, что это? Может, сообщить куда надо, позвонить главврачу, что ли…
Андрей нервно закурил, походил по палате, посмотрел на магнитофон, надавил клавишу…
Катюша, одеревеневшая, столбом стояла подле тумбочки и табуретки.
II
«…Я, сестрица, никакой не сумасшедший, не подумай ничего такого. Просто исповедь моя выглядит фантазией… Слушай. Родился я в 1530 году от Рождества Христова в мыльне тятеньки моего, царского стольника Федора Отбабахина, под вечер, когда меняли маслице в лампадках. Вот, смеешься… А ты не смейся. Не смешно… Ты слушай – и запоминай. Хотя, впрочем, магнитофон пишет. В лампадках, значит. Я глотнул настоянного на мяте горячего духа и заверещал. Ночью прискакал тятенька мой, долго разглядывал меня, пил квас из ковшика, шевелил пальцами возле носа моего, сюсюкал ласково:
– Динь-дон, динь-дон, загорелся Кошкин дом…
Маменька рдела, любовно поглядывая на меня и на тятеньку. Появился я на свет Божий в один год с государем нашим Иваном Васильевичем, только на три месяца ранее: он – в августе, я – в мае. С тех пор страшно маюсь, сестрица: за грехи тяжкие покарал меня Господь.
Лет до семи воспитывался я в родительской вотчине. А после в принудительном порядке прикрепили меня в числе прочих дворянских отроков ко двору – в окружение малолетнего царя. Иван к тому периоду своей жизни остался круглым сиротой, опекали его бояре Шуйские, Глинские да Скопины. Бояре потакали мальчику во всем, поощряли все его гнусности. Только они, пестуны, повинны в растлении царя-ребенка, только по их преступной злобе государь в раннем детстве заболел психическими болезнями. Правя государством и безбожно грабя казну, бояре проводили политику подлых временщиков.
Когда я, сестрица, впервые увидел Ивана, я испужался: передо мной стоял семилетний психопат. Лишь в минуты просветления он казался мне кротким и душевным.
Помню, в первый же день нашего знакомства с ним Иван сурово оглядел нас и молвил сиплым баском:
– Подмогнете драть кота?
Конечно, мы привыкли к жестоким забавам царя, со временем они уже не казались нам ужасными, и мы мучили животных без всякого содрогания. Да что там кошки: людей давили конями. Я даже превзошел царя в злодействах.
Но шок, полученный мной в первые дни пребывания во дворце, не прошел для меня даром. В моем организме случился сбой: я как бы остановился в росте. Мои сверстники росли, мужали, крепли – я же оставался карликом. Не зря потом меня определили в потешную команду.
Когда стукнуло мне двадцать годков, Иван Васильевич уже сидел, лютуя, на троне. Лишь нас, друзей детства, щадил: тешили, видать, его приятные воспоминания. Мои ровесники пошли в гору, стали большими людьми в сыскной избе, служили не за страх, а за совесть в пыточном отделе, отдавая себя до конца любимому делу. Лишь я бегал в колпаке с бубенцами вокруг трона, потешая царскую публику и получая пинки.
Однажды государь спросил меня ласково:
– Что не весел, собака?
– Челом бью. Вели слово молвить!
Грозный находился в добром расположении духа – намедни, на пире, отравил ненавистных ему бояр. Я бухнулся в ноги:
– Допусти в избу пыточную. Там призвание мое. Не мил мне колпак дурацкий.
– Так ты же карлик! – развеселился царь. – Ты ж и топора не поднимешь!
– Допусти! Дай срок испытательный. Не посрамлю дела!
Царь задумался:
– Ладно. Тридцать ден даю. Доказывай.
…Спустя месяц слава обо мне по всей Москве пошла – так лихо кнутобойничал! Говоря современным языком – был я в застенках пыточных психологом искусным. Представь себе, сестрица, подвал зловонный, адский. На дыбе – жертва в муках корчится. Каты в сторонку отошли – отдохнуть. Вносят факелов побольше. И я вхожу. Сквозь кровавую муть видит жертва ангела в одеждах белых – синеокого русого отрока. И возгорается надеждой! Божественным, кротким голосом, полным доброты и участия, утешаю я висящего на дыбе, прошу покаяться, обещаю отпущение грехов и освобождение. Умываясь кровавыми слезами, истово кается жертва, вещает о злодейских умыслах своих и сотоварищей. Тут я ножичком ему промеж ребер, ножичком! Царь оценил труды мои: наградил сельцом и поставил с учетом моего жестокого лукавого ума чинить допросы по главным государевым делам.
Без ложной скромности скажу: идеологом опричнины был я, а не царь. Тем более не Малюта Скуратов. Меж мной и Малютой Скуратовым вражда шла лютейшая. В конце концов убедил Ивана Васильевича задушить Малюту. По сути дела, во всех тайных и явных убийствах, в которых был замешан царь, я принимал участие. Лишь раз злодейство свершилось как бы в обход. Случилось это в 1581 году, в разгар Ливонской войны, когда мы терпели одно поражение за другим. Меж Грозным и его сыном, царевичем Иваном, возникла стычка. Царевич упрекал отца в медлительности, требовал оказать срочную помощь Пскову, осажденному ливонцами. Грозный молча внимал попрекам, закрыв в гневе глаза, затем вскочил с кресла и широко размахнулся посохом. Трагедия разыгралась столь стремительно, что в первую минуту присутствовавшие не поверили в случившееся. Но царевич лежал бездыханным…
После смерти Ивана Васильевича я не шибко переживал за дальнейшую судьбу мою: такие профессионалы, как я, на средневековых дорогах России не валялись. Я продолжал с усердием и рвением служить в должности, заказов на уничтожение врагов государевых хватало, дыбы и топор палаческий не пылились без работы. Из самых громких упомяну дело об убийстве царевича Дмитрия. Разрабатывал план уничтожения угличского затворника лично я, под контролем моим велось и следствие.
Но странен, сестрица, был облик мой. При моих летах и чинах (а стукнуло мне под конец столетия аж шестьдесят семь годков) имел я наружность пятнадцатилетнего юнца. Жизнь во мне как бы тлела под невидимым стеклянным панцирем. Не ведал, что мучения мои продлятся века!
III
По снежной пустыне, под лунным сиянием, сквозь дремучие древние леса мчался я на тройке в Соловецкую обитель, к мужу великому и ученому, некогда могучему, любимцу царскому и духовнику – отцу Сильвестру. Зазнался поп, на самого царя с поучениями и угрозами полез, мыслил предать анафеме. Неприкасаемый… В гневе жутчайшем вышиб царь славного протопопа и сочинителя «Домостроя» из Александровской цитадели, чудом головы не лишил. Двенадцатую зиму маялся старец на Соловках.