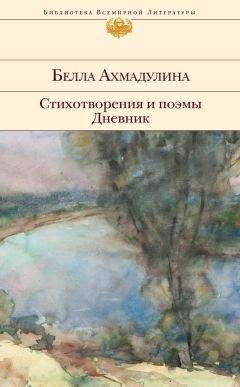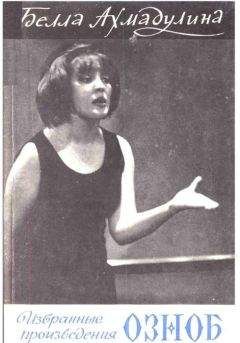Белла Ахмадулина - Сборник стихов
Симон Чиковани
Задуманное поведай облакам
А после — шаль висела у огня,
и волосы, не знавшие законов
прически, отряхнулись от заколок
и медленно обволокли меня.
Я в них входил, как бы входил в туман
в горах сванетских, чтобы там погибнуть,
и все-таки я их не мог покинуть,
и я плутал в них и впадал в обман.
Так погибал я в облаке твоем.
Ты догадалась — и встряхнула ситом,
пахнуло запахом земным и сытым,
и хлеб ячменный мы пекли вдвоем.
Очаг дышал все жарче, все сильней.
О, как похожи были ты и пламя,
как вы горели трепетно и плавно,
и я гостил меж этих двух огней.
Ты находилась рядом и вокруг,
но в лепете невнятного наречья,
изогнутою, около Двуречья
тебя увидеть захотел я вдруг.
Чуть не сказал тебе я: «О лоза,
о нежная, расцветшая так рано…»
В Сванетии не знают винограда,
я не сказал. И я закрыл глаза.
Расстались мы. И вот, скорей старик,
чем мальчик, не справляюсь я с собою,
и наклоняюсь головой седою,
и надо мной опять туман стоит.
Верни меня к твоим словам, к рукам.
Задуманное облакам поведай,
я догадаюсь — по дождю, по ветру.
Прошу тебя, поведай облакам!
Симон Чиковани
Девять дубов
Число девять считалось в народе магическим (девять дорог, девять гор, девять корней и т. д.). Девять дубов — символ непоколебимости, силы, долговечности народа. Девять плит Марабды девять могил братьев Херхеулидзе, героически погибших в битве при Марабде.
Мне снился сон — и что мне было делать?
Мне снился сон — я наблюдал его.
Как точен был расчет — их было девять:
дубов и дзвов. Только и всего.
Да, девять дэвов, девять капель яда
на черных листьях, сникших тяжело.
Мой сон исчез, как всякий сон. Но я-то,
я не забыл то древнее число.
Вот девять гор, сужающихся кверху,
как бы сосуды на моем пути.
И девять пчел слетаются на квеври,
и квеври тех — не больше девяти.
Я шел, надежду тайную лелея
узнать дубы среди других лесов.
Мне чудится — они поют «Лилео».
О, это пенье в девять голосов!
Я шел и шел за девятью морями.
Число их подтверждали неспроста
девять ворот, а девять плит Марабды,
и девяти колодцев чистота.
Вдруг я увидел: посреди тумана
стоят деревья. Их черты добры.
И выбегает босиком Тамара
и девять раз целует те дубы.
Я исходил все девять гор. Колени
я укрепил ходьбою. По утрам
я просыпался радостный. Олени,
когда я звал, сбегали по горам.
В глаза чудес, исполненные света,
всю жизнь смотрел я, не устав смотреть.
О, девять раз изведавшему это
не боязно однажды умереть.
Мои дубы помогут мне. Упрямо
я к их корням приникну. Довезти
меня возьмется буйволов упряжка.
И снова я сочту до девяти.
Симон Чиковани
Три стихотворения о серафите
Во время археологических раскопок древней картлийской столицы Армази, близ Мцхеты, была обнаружена гробница юной и прекрасной девушки — Серафиты, чей облик чудом сохранился до наших дней в своей живой прелести. В гроб ее проник корень гранатового дерева, проскользнувший в кольцо браслета.
Раздумья о CерафитеКак вникал я в твое многолетие, Мцхета.
Прислонившись к тебе, ощущал я плечом
мышцы трав и камней, пульсы звука и цвета,
вздох стены, затрудненный огромным плющом.
Я хотел приобщить себя к чуждому ритму
всех старений, столетий, страстей и смертей.
Но не сведущий в этом, я звал Серафиту,
умудренную возрастом звезд и детей.
Я сказал ей: — Тебе все равно, Серафита:
умерла, и воскресла, и вечно жива.
Так явись мне воочью, как эта равнина,
как Армази, созвездия и дерева.
Не явилась воочью. Невнятной беседой
искушал я напрасно твою немоту.
Ты — лишь бедный ребенок, случайно бессмертный,
но изведавший смерть, пустоту и тщету.
Все тщета! — я подумал. — Богатые камни
неусыпных надгробий — лишь прах, нищета.
Все тщета! — повторил я. И вздрогнул: — А Картли?
Как же Картли? Неужто и Картли — тщета?
Ничего я не ведал. Но острая влага
округлила зрачок мой, сложилась в слезу.
Вспомнил я — только ель, ежевику и благо,
снизошедшее в этом году на лозу.
И пока мои веки печаль серебрила,
и пугал меня истины сладостный риск,
продолжала во веки веков Серафита
красоты и бессмертия детский каприз.
Как тебе удалось — над убитой боями
и воскресшей землею, на все времена,
утвердить независимый свет обаянья,
золотого и прочного, словно луна?
Разве может быть свет без источника света?
Или тень без предмета? Что делаешь ты!
Но тебе ль разделять здравомыслие это
в роковом заблужденье твоей красоты!
Что тебе до других? Умирать притерпелись,
не умеют без этого жить и стареть.
Ты в себе не вольна — неизбывная прелесть
не кончается, длится, не даст умереть.
Так прощай или здравствуй! Покуда не в тягость
небесам над Армази большая звезда, —
всем дано претерпеть эту муку и благость,
ничему не дано миновать без следа.
Не умерла, не предана земле.
Ты — на земле живешь, как все.
Но разве,
заметив боль в пораненном крыле,
не над тобою плакал твой Армази?
О, как давно последние дары
тебе живая суета дарила!
С тех пор я жду на берегах Куры,
и засухой опалена долина.
Не умерла. И так была умна,
что в спешке доброты и нетерпенья
достиг твой шелест моего гумна:
вздох тишины и слабый выдох пенья —
Что делаешь? Идешь? Или пока
тяжелым гребнем волосы неволишь?
Не торопись. Я жду тебя — века.
Не более того. Века всего лишь.
Еще помедли, но приди. Свежа
н не трудна твоя дорога в Мцхету.
Души моей приветная свеча
уже взошла и предается свету.
Уж собраны и ждут тебя плоды
и лакомства, стесненные корзиной.
Как милосердно быть такой, как ты:
сюда идущей и такой красивой.
В молчании твой голос виноват.
Воспой глубоким горлом лебединым
и виноградаря, и виноград,
и виноградники в краю родимом.
Младенческою песней умудрен,
я разгадаю древние затеи
и вызволю из тесноты времен
отцов и дедов доблестные тени.
Бессмертное не может быть мертво.
Но знает ли о том земля сырая,
ошибку ожиданья моего
оплакивая и благословляя?
Как твой удел серьезен и высок:
в мгновенных измененьях мирозданья
все бодрствует великий голосок
бессмертного блаженства и страданья.
И встретились:
бессмертья твоего
прекрасная и мертвая громада
и маленькое дерево граната,
возникшее во мгле из ничего.
Ум дерева не ведает иной
премудрости:
лишь детское хотенье
и впредь расти, осуществлять цветенье
и алчно брать у щедрости земной.
Не брезгуя глубокой тьмой земли,
в блаженном бессознании умнейшем,
деревья обращаются к умершим
и рыщут пользы в прахе и пыли.
Но что имел в виду живой росток,
перерастая должные границы,
когда проник он в замкнутость гробницы
и в ней сплоченность мрамора расторг?
Влекло его твое небытие
пройти сквозь твердь плиты непроходимой,
чтобы припасть к твоей руке родимой,
удостоверясь в тонкости ее.
С великим милосердием дерев
разнял он узкий холодок браслета
и горевал, что ты была бессмертна
лишь вечно, лишь потом, лишь умерев.
Гранат внушал запястью твоему
все то, что знал об алых пульсах крови
в больших плодах, не умещенных в кроне
и по ночам слетающих во тьму.
Он звал тебя узнать про шум ветвей
с наивностью, присущею растеньям,
истерзанный тяжелым тяготеньем,
кровоточеньем спелости своей.
Какая же корысть владела им,
вела его в таинственные своды
явить великодушие природы
в последний раз! — твоим рукам немым?
Не Грузии ли древней тишина
велит очнуться песенке туманной:
«Зачем так блещут слезы, мой желанный?
Зачем мне эта легкость тяжела?»
Не Грузии ли древней колдовство
велит гранату караулить плиты
и слабое дыханье Серафиты
не упускать из сердца своего?
Симон Чиковани