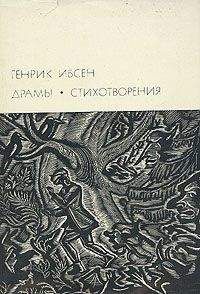Антонин Ладинский - Собрание стихотворений
Последнее утверждение Цетлина разделял и Владимир Варшавский: «Соединенные вместе, эти нарядные и очаровательные стихи приобрели какое-то новое, более глубокое, высшее и в то же время более человечески-реальное бытие. <…> Мне думается, что по своим темам и по своему “дыханию” Ладинский принадлежит к тому течению современной русской поэзии, которое образуется поколением переходным, еще помнящим Петербург, и поколением новым, парижско-эмигрантским. Но как во всем его творчестве, есть в стихах Ладинского, несмотря на их возвышенный строй и “столичный” блеск, какая-то глубокая связанность с бесхитростными романтическими мечтаниями трогательно-простой и бедной, впервые воспетой Пушкиным и теперь, вероятно, исчезнувшей провинциальной русской жизни, и, может быть, именно эта тайная связанность, как звучание какого-то тихого и прекрасного забытого голоса, и придает что-то особо чистое, простое и прелестное стихотворному миру Ладинского. Есть и еще одна особенная черта: это спокойная, безропотная, без героически-театральных жестов мужественность <…> В книге не много стихов, посвященных войне, но все время, как неотступноприсутствующее воспоминание, проходят тени сражений, слышится “призрачный галоп копыт” и кажется, что над всей поэзией Ладинского, точно какое-то недоговоренное “слово о полку”, стоит трагический призрак исторической дон-кихотской гибели русского армейского офицерства» (Новая газета. 1931. 1 марта. № 1. С. 5).
В журнале «Мир и искусство» за подписью «Читатель» появился отзыв на книгу в исключительно восхищенных тонах: «Откажемся на этот раз от присяжного критика; пусть даже заранее известно, что к этой тоненькой книжке стихов, обернутой в синюю тетрадочную, весьма удачно придуманную, бумагу — отнесется он милостиво и даже благосклонно. Вот эту синенькую тетрадку, именно ее, не хочется отдавать нам коронному суду несменяемых судей. Напишите о ней вы, рядовой читатель. Не мудрствуйте! Не открывайте истин! Не изрекайте! Поэту не так нужен скальпель специалиста, пусть даже целительный, как ласка обыкновенного смертного. Поэту холодно жить. Это или маниак, или настоящий художник. Настоящий, прежде всего, потому — да простят мне невинные души, — что “презренный” металл не касается (почти!) его музы. Вот вам книжка Ладинского. <…> Каким глубоким внутренним теплом согрета каждая строчка! <…> Как Гумилев, Ладинский всего чаще путешествует. Оторвавшись от России, плывет он в далекие, может быть, существующие страны, бредет с караванами по Сахаре, летит на Северный полюс, чтобы вернуться к Каиру, мечется душой в голубом воздухе земной атмосферы, тонет в голубых глазах, любуется голубой розой и снова по голубым морям уходит в дальние страны, в пески Сахары, по которой колышутся голубые горбы верблюдов. Эту влюбленность в голубое вы встречаете почти в каждом стихотворении. Это — тоска по простору, по бескрайнему горизонту, по неведомому, заманчивому, отгаданному, но не виденному. А черное? Черное — это земля. Поэт слишком с ней связан, слишком близок ей в своей грусти и не в силах от нее оторваться. Прикованный к черной земле, мечтает он о голубом просторе, и очаровательная музыка его стихов иногда, быть может, покажется монотонной, но ее не смешаешь, ее не забудешь, ею пленяешься» (Мир и искусство. 1931. № 3. С. 15).
По обыкновению восторжен был и П. Пильский: «В этой толпе рифмующих Ант. Ладинский — светлое исключение. Он — настоящий поэт. В его стихах — сила. Они — смелы и оригинальны. Струятся новые напевы, в них слышится красивая душа. Ант. Ладинский — сложен, но ясен. Его последняя книжка “Черное и голубое” полна прозрачных и ликующих тайн. Здесь все в движении, образы полны живой и страстной энергии. Этот поэт — враг статики. Везде у него — взлеты, порывы, бег, струение. Пролетают и мчатся аэропланы, кони, корабли, меж чернотой земли и небесной голубизной “в потоке быстротечном скрипят борты”, и все “хлещет”, “трепещет”, “взлетает”, “вскипает”. Рвущиеся силы и “этот воздух, перекрытий лет”, непокорная душа, — “плавней стрелы” поднимаются и дышат истинным вдохновением: вдохновенность — тоже порыв и движение. Образы мощны <…> Ладинскому земля — родной удел, но тесный дом. В этой колыбели — его плен. Отсюда — мятеж, мечта о небесной выси. У Ладинского эта мечта — нарядна, романтизм — красив и тонок. Он еще и слегка театрален. В нем проблескивают видения сцены, пред глазами проходят бальные шествия <…> Стихи Ладинского полновесны, сравнения неожиданны и новы, их свободная, расточительная и легкая игра увлекательна даже сейчас, в нашем общем стихотворном безочаровании» (Сегодня. 1931. 10 февраля. № 41. С. 8. Подп.: П. П).
Напротив, Леонид Раневский счел, что «у Ладинского есть поэтическое дарование, но <…> искусством стиха автор еще не овладел в достаточной мере и ему придется много поработать над собой». При этом, однако, рецензент был убежден: «Несомненно, что первая книжка стихов Ант. Ладинского будет иметь успеху читателей» (Ллойд журнал (Париж — Берлин). 1931. № 1. С. 121).
1. «Нам скучно на земле, как в колыбели…» — Последние новости. 1926. 14 октября. № 2031. С. 3.
2. Муза («Обманщица, встречаемся мы редко…») — Современные записки. 1926. № 28. С. 224. С разночтениями в строках 10 («Загар? И розовый Каир? Стонали…»), 16 («Теперь ты мерзнешь под мансардной крышей…») и 23 («Пора заняться дельными стихами…») и с дополнительными 25–28: «И так уж говорят, что мы с тобою / Людей пугаем в солнечные дни / Свинцовой копотью пороховою — / Не нюхивали пороху они».
3. Детство («Склоняясь надо мною, мать, бывало…») — Последние новости. 1928. 3 мая. № 2598. С. 3. С разночтениями в строках 3 («Существованье смутное ласкала»), 4 («В дремучей жизни, как в ночном лесу»), 13 («Как скучно было мне средь оживленья») и 21 («Но вот рояль прекрасный раскрывали»). Строфы 6 и 7 переставлены местами.
4. Гаданье («Колода карт гадальных…») — Последние новости. 1929. 25 декабря. № 3199. С. 3.
5. Адмирал («Скрипят корабли в туманах…») — Новый корабль. 1928. № 3. С. 4–5.
Ф. Охотников, рецензируя третий номер «Нового корабля», заметил об этом стихотворении: «А. Ладинский радует легкостью дарования и какой-то трудно определимой, едва ли сознательной “безошибочностью” ритма» (Звено. 1928. № 5. С. 286).
6. Щелкунчик («Щелкунчику за святочным рассказом…») — Последние новости. 1929. 2 мая. № 2962. С. 2. С разночтением в 1-й строке: «Щелкунчику за девичьим рассказом…».
7–9. Стихи о Московии — Воля России. 1926. № 4. С. 33–35. С разночтениями в строках 1–4 («Я путешественник и чужестранец. / Москва! Москва! — ты лебединый крик, / Зима, морозный на щеках румянец. / Веду в дороге путевой дневник»), 7 («Глаза — большие синие озера»), 19 («И с петушиным пеньем, до рассвета»), 22–23 («Душа взволнованная назвалась, / Гостеприимным паром и приманом»), 25–28 («Скорей, скорей, все дальше, леденея, / Мечту вздувает ветер. Снег валит. — / Ладьею дымной, солнцем в эмпиреях / Московия навстречу мне летит»), 29–30 («Приехали и кони наши — в мыле. / Так вот она — величья колыбель!», 40 («Волнует ласковая теплота»), 43 («За окнами трещит мороз, а чашки»), 45–52 («Колокола к вечерне надрывают / Всю нежность теплых бархатных басов, — / В них жалоба такая же грудная / На жаркие подушки теремов… / Необычаен этот милый город — / Весь розовый, в кострах и в серебре, / Где вспоминают Индию соборы, / Грустят о нежной бронзовой сестре»), 60 («Страна векам счисление ведет»), 61 («А за прилавком, щелкая на счетах»), 63 («Косит на черных Спасов за киотом»), 65–68 («О путник любопытный Олеарий, / Записывай, какие видел сны, / Пиши, что нет на всем подлунном мире / Такой прекрасной и большой страны!») и с дополнительной 16-й строфой:
Индийская царевна в смольных косах,
Улыбка бронзовых блаженных губ! —
Твой жаркий бред — крещенские заносы,
Медвежий храп и дым московских труб;
11. Бегство («Пропели хриплым хором петухи…») — Звено. 1926. № 168. 18апреля. С. 6. С разночтениями в строках 9-21:
И на горбатый гулкий мост в галоп.
Оливковыми рощами, холмами,
Шумел в ушах печальный ветер в лоб,
Играл чернокрылатыми плащами.
И мимо мельниц, редких деревень,
В харчевнях прятались на сеновале, —
Внизу сержанты пили целый день,
Хорошеньких служанок целовали.
И, побледнев от скрипа половиц,
Трактирщик приносил вина и хлеба.
А в слуховом — пыланье черепиц,
Плясала пыль, порозовело небо.
И друг заплакал, как дитя, навзрыд,
Он вспомнил дом суконщика, ночную.
12. Любимица («Не оглядываясь на подруг…») — Звено. 1927. № 208. 23 января. С. 6. С разночтениями в строках 21–24: «Первою приходишь ты к столбу, / Загнанная лошадь молодая / С белою отметиной на лбу, / Падаешь, хрипишь, бока вздымая».