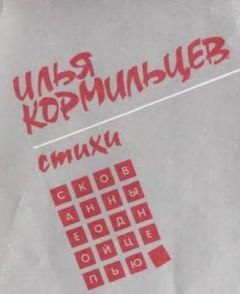Вера Полозкова - Стихи Веры Полозковой разных лет
Это лучше, чем издавать, я дурной сюжетчик.
Правда, достоверный диалогист.
Мы неокончательны, нам ногами болтать, висеть,
Словно Бог еще не придумал, куда девать нас.
Все, что есть у нас - наша чертова адекватность
И большой, торжественный выход в сеть.
У меня есть мама и кот, и это моя семья.
Мама - женщина царской масти, бесценной, редкой.
Ну а тем, кто кличет меня зарвавшейся малолеткой -
Господь судья.
19 ноября 2007 года.
@@@
Мой дядя самых честных правил,
А самых борзых - опускал.
25/11/07
@@@
Катя пашет неделю между холеных баб, до сведенных скул. В пятницу вечером Катя приходит в паб и садится на барный стул. Катя просит себе еды и два шота виски по пятьдесят. Катя чернее сковороды, и глядит вокруг, как живой наждак, держит шею при этом так, как будто на ней висят.
Рослый бармен с серьгой ремесло свое знает четко и улыбается ей хитро. У Кати в бокале сироп, и водка, и долька лайма, и куантро. Не хмелеет; внутри коротит проводка, дыра размером со все нутро.
Катя вспоминает, как это тесно, смешно и дико, когда ты кем-то любим. Вот же время было, теперь, гляди-ка, ты одинока, как Белый Бим. Одинока так, что и выпить не с кем, уж ладно поговорить о будущем и былом. Одинока страшным, обидным, детским – отцовским гневом, пустым углом.
В бокале у Кати текила, сироп и фреш. В брюшине с монету брешь. В самом деле, не хочешь, деточка – так не ешь. Раз ты терпишь весь этот гнусный тупой галдеж – значит, все же чего-то ждешь. Что ты хочешь – благую весть и на елку влезть?
Катя мнит себя Клинтом Иствудом как он есть.
Катя щурится и поводит плечами в такт, адекватна, если не весела. Катя в дугу пьяна, и да будет вовеки так, Кате хуйня война – она, в общем, почти цела.
У Кати дома бутылка рома, на всякий случай, а в подкладке пальто чумовой гашиш. Ты, Господь, если не задушишь – так рассмешишь.
***
У Кати в метро звонит телефон, выскакивает из рук, падает на юбку. Катя видит, что это мама, но совсем ничего не слышит, бросает трубку.
***
Катя толкает дверь, ту, где написано «Выход в город». Климат ночью к ней погрубел. Город до поролона вспорот, весь желт и бел.
Фейерверк с петардами, канонада; рядом с Катей тетка идет в боа. Мама снова звонит, ну чего ей надо, «Ма, чего тебе надо, а?».
Катя даже вздрагивает невольно, словно кто-то с силой стукнул по батарее: «Я сломала руку. Мне очень больно. Приезжай, пожалуйста, поскорее».
Так и холодеет шалая голова. «Я сейчас приду, сама тебя отвезу». Катя в восемь секунд трезва, у нее ни в одном глазу.
Катя думает – вот те, милая, поделом. Кате страшно, что там за перелом.
Мама сидит на диване и держит лед на руке, рыдает. У мамы уже зуб на зуб не попадает. Катя мечется по квартире, словно над нею заносят кнут. Скорая в дверь звонит через двадцать и пять минут. Что-то колет, оно не действует, хоть убей. Сердце бьется в Кате, как пойманный воробей.
Ночью в московской травме всё благоденствие да покой. Парень с разбитым носом, да шоферюга с вывернутой ногой. Тяжелого привезли, потасовка в баре, пять ножевых. Вдоль каждой стенки еще по паре покоцанных, но живых.
Ходят медбратья хмурые, из мглы и обратно в мглу. Тряпки, от крови бурые, скомканные, в углу.
Безмолвный таджик водит грязной шваброй, мужик на каталке лежит, мечтает. Мама от боли плачет и причитает.
Рыхлый бычара в одних трусах, грозный, как Командор, из операционной ломится в коридор. Садится на лавку, и кровь с него льется, как пот в июле. Просит друга Коляна при нем дозвониться Юле.
А иначе он зашиваться-то не пойдет.
Вот ведь долбанный идиот.
Все тянут его назад, а он их расшвыривает, зараза. Врач говорит – да чего я сделаю, он же здоровее меня в три раза. Вокруг него санитары и доктора маячат.
Мама плачет.
Толстый весь раскроен, как решето. Мама всхлипывает «за что мне это, за что». Надо было маму везти в ЦИТО. Прибегут, кивнут, убегут опять.
Катя хочет спать.
Смуглый восточный мальчик, литой, красивый, перебинтованный у плеча. Руку баюкает словно сына, и чья-то пьяная баба скачет, как саранча.
Катя кульком сидит на кушетке, по куртке пальчиками стуча.
К пяти утра сонный айболит накладывает лангеты, рисует справку и ценные указания отдает. Мама плакать перестает. Загипсована правая до плеча и большой на другой руке. Мама выглядит, как в мудацком боевике.
Катя едет домой в такси, челюстями стиснутыми скрипя. Ей не жалко ни маму, ни толстого, ни себя.
***
«Я усталый робот, дырявый бак. Надо быть героем, а я слабак. У меня сел голос, повыбит мех, и я не хочу быть сильнее всех. Не боец, когтями не снабжена. Я простая баба, ничья жена».
Мама ходит в лангетах, ревет над кружкой, которую сложно взять. Был бы кто-нибудь хоть – домработница или зять.
***
И Господь подумал: «Что-то Катька моя плоха. Сделалась суха, ко всему глуха. Хоть бывает Катька моя лиха, но большого нету за ней греха.
Я не лотерея, чтобы дарить айпод или там монитор ЖК. Даже вот мужика – днем с огнем не найдешь для нее хорошего мужика. Но Я не садист, чтобы вечно вспахивать ей дорогу, как миномет. Катерина моя не дура. Она поймет».
Катя просыпается, солнце комнату наполняет, она парит, как аэростат. Катя внезапно знает, что если хочется быть счастливой – пора бы стать. Катя знает, что в ней и в маме – одна и та же живая нить. То, что она стареет, нельзя исправить, - но взять, обдумать и извинить. Через пару недель маме вновь у доктора отмечаться, ей лангеты срежут с обеих рук. Катя дозванивается до собственного начальства, через пару часов билеты берет на юг.
…Катя лежит с двенадцати до шести, слушает, как прибой набежал на камни – и отбежал. Катю кто-то мусолил в потной своей горсти, а теперь вдруг взял и кулак разжал. Катя разглядывает южан, плещется в лазури и синеве, смотрит на закаты и на огонь. Катю медленно гладит по голове мамина разбинтованная ладонь.
Катя думает – я, наверное, не одна, я зачем-то еще нужна.
Там, где было так страшно, вдруг воцаряется совершенная тишина.
26 ноября 2007 года.
@@@
И когда она говорит себе, что полгода живет без драм,
Что худеет в неделю на килограмм,
Что много бегает по утрам и летает по вечерам,
И страсть как идет незапамятным этим юбкам и свитерам,
Голос пеняет ей: "Маша, ты же мне обещала.
Квартира давно описана, ты ее дочери завещала.
Они завтра приедут, а тут им ни холодка, ни пыли,
И даже еще конфорочки не остыли.
Сядут помянуть, коньячок конфеткою заедая,
А ты смеешься, как молодая.
Тебе же и так перед ними всегда неловко.
У тебя на носу новое зачатие, вообще-то, детсад, нулевка.
Маша, ну хорош дурака валять.
Нам еще тебя переоформлять".
Маша идет к шкафам, вздыхая нетяжело.
Продевает руку свою
В крыло.
28/11/07
@@@
Питер, говорю я девушке Тане в салоне, это папа, а Москва - мама; они в разводе, и живешь ты, понятно, с мамой, властной, громогласной, поджарой теткой под сорок, карьеристкой, изрядной стервой; а к папе приезжаешь на выходные раз в год, и он тебя кормит пышками с чаем, огорошивает простой автомагистральной поэзией типа "Проезд по набережным Обводного канала под Американскими мостами - закрыт" и вообще какой-то уютнейший, скромнейший дядька, и тебе при встрече делается немедленно стыдно, что ты так редко его навещаешь.
02/12/07
@@@
Старый Хью жил недалеко от того утеса, на
Котором маяк – как звездочка на плече.
И лицо его было словно ветрами тёсано.
И морщины на нем – как трещины в кирпиче.
«Позовите Хью! – говорил народ, - Пусть сыграет соло на
Гармошке губной и песен споет своих».
Когда Хью играл – то во рту становилось солоно,
Будто океан накрыл тебя – и притих.
На галлон было в Хью пирата, полпинты еще – индейца,
Он был мудр и нетороплив, словно крокодил.
Хью совсем не боялся смерти, а все твердили: «И не надейся.
От нее даже самый смелый не уходил».
У старого Хью был пес, его звали Джим.
Его знал каждый дворник; кормила каждая продавщица.
Хью говорил ему: «Если смерть к нам и постучится –
Мы через окно от нее сбежим».
И однажды Хью сидел на крыльце, спокоен и деловит,
Набивал себе трубку (индейцы такое любят).
И пришла к нему женщина в капюшоне, вздохнула: «Хьюберт.