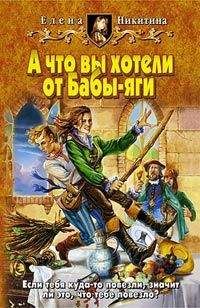Елена Крюкова - Зимний Собор
– Купи, не пожалеешь!.. Крокодилий переплет!..
Отдам всего за пятерик!.. С ней ни крестить, ни жить,
А позарез за воротник нам треба заложить!..
Обугленную книгу я раскрыла наугад.
И закричала жизнь моя, повторена стократ,
С листов, изъеденных жучком, – засохли кровь и воск!.. –
С листов, усыпанных золой, сребром, горстями звезд…
Горели под рукой моей Адамовы глаза,
У Евы меж крутых грудей горела бирюза!
И льва растерзывал Самсон, и плыл в Потопе плот,
И шел на белый свет Исус головкою вперед!
– Хиба то Библия, чи шо?.. – кивнул другой, утер
Ладонью рот – и стал глядеть на снеговой костер.
Сучили ветки. Города мыл грязные – буран.
Глядели урки на меня, на мой пустой стакан.
И я дала им пять рублей за Библию мою,
За этот яркий снеговей у жизни на краю,
За то, что мы едим и пьем и любим – только здесь,
И что за здешним Бытием иное счастье есть.
ВНУТРИ СТРАШНОГО СУДА
Не сломайте руки мне – хрусткие ледышки…
Морды – мышки… щеки – пышки…
Я лечу внутри Суда: под ногами – города;
Я бегу до хрипа, до одышки
По тяжелым облакам… юбка задерется – виден срам…
А солдат глядит, замерзший, с вышки
На летящую в небесах – меня!.. На шматок волос огня…
На живот мой, локти и подмышки…
Я жила, жила, жила. Я пила, пила, пила.
Ела, ела, ела – и любила.
Синие гвозди звезд… лес, зубцы пихт… мгла…
Топор Луны… кометы метла…
В руке ночной, черной, скрюченной, – звездное кадило…
Руки, что нянчили меня, – мертвы.
Губы, что кусали хлеб моих щек, – мертвы.
На половые тряпки порваны пеленки.
Истлел мой детский, в златых блестках, княжеский кафтан.
Сгорел в печи мой детский барабан.
Страшный Суд!.. прими голого ребенка.
Прими голое, морщинистое, старое дитя.
Бутылку жму к груди: о, не в вине душа.
Седую бровь я пальцем послюню.
Я ведь маленькая, Бог, а дура – будь здоров.
Я не научилась за всю жизнь, посреди пиров,
Съедать Царские яства на корню.
Не выучилась, дура, – а хотела как!.. –
Никогда не разменивать разменный пятак;
Отрезать от пирога, чтоб не убывало;
Нагло врать в лицо, чтоб свою шкуру сберечь,
И так исковеркать грубую, горькую речь,
Чтоб обсасывали косточки, грызли сладко, вопили:
“Вкусно!… Дай еще!.. мало!..”
Ах, дура, – бежала голяком!
Ах, Федура, – не умела тишком:
Все гром, да слом, да ор, да вор, да крик истошный!
Вот и слышно было мя издалека
Вот и знали все мя – от холопа до князька:
Смех заливистый, посвист скоморошный!
А и в Царских невестах ходила небось!..
А и в Царских дочерях походить довелось!..
А мне все у виска пальцем крутили:
Что ты, девка, они ж подохли все давно…
Что ты, кляча, в том лесочке темно,
Ни часовни, ни креста на той могиле!..
Все Царское у тебя – и зипун, и тулуп.
Все Царское у тебя – и изгиб ярких губ,
И синь очей из-под век,
и на плечах алмазный снег,
и ожерелье вьюги.
Вся жизнь твоя Царская – в огне и в беде.
И ты, Царица, в небе летишь, на Страшном Суде,
И сосцы твои – звезды, и руки твои – звездные дуги.
И глаза твои, Царица, – один Сириус, другой Марс:
Они жестоко и страшно глядят на нас,
И ладони твои, Царица, – звездные лики:
Они обернуты к нам, и пальцы подъяты, как власа, –
Живи, Царица, еще час, еще полчаса,
А там – душа пусть выйдет в звездном крике.
И раскатится крик над ночной тайгой – Страшный Суд!
И ты упадешь с небес, Царица! И тебя унесут,
Увезут на телеге с зеленого льда расстрела:
Ах, была ты дура из дур, что орала так –
Вот молчанье навек, вот на глаза пятак,
И это длинное, худое, животастое, ребрастое,
старое, Царское, детское, нищее тело.
А и где душа?.. А и нету души.
Тихо из мира уходи. Звезду туши.
РЫНОК. ДИТЯ
Я – ребенок. Ночами мне снится елка в точках тигриных зрачков.
Я тащу за собой рукавицы – двух привязанных белых щенков.
Я сижу на коленях у мамы, как большой золотой самовар!
И гулять направляюсь упрямо не во двор, а на зимний базар.
Стружки белые пахнут цветами. Огурец толстокожий горчит.
Черной лапою звезды хватая, над торговками елка торчит.
Льется медленной медью из крынки желтый мед на морозе густом.
Чем-то доверху полны корзинки и прикрыты капустным листом.
Сыплют красные грубые пальцы на прилавок седой из мешка
Деревянных медведей и зайцев, словно ягоды из туеска.
Я мечтаю о зайце дубовом. Я цветочного меда хочу.
Денег нет. Я серебряным словом и отчаяньем детским плачу.
Я стою – чуть пониже прилавка. Словно яблоко, желтый помпон.
Пахнет снегом, рассолом и травкой от распахнутых шубой времен.
Мать берет меня на руки круто и несет меж торговых рядов –
От зимы сухорукой и лютой, от счастливых еловых годов,
Мимо ругани, купли-продажи, мимо ларей, прикрытых мешком –
В жизнь, где связаны честность и кража воедино – колючим пучком.
ПОХОРОНЫ
Хоронили отца. Он художником был.
Гроб стоял средь подрамников, запахов лака –
Средь всего, чем дышал он и что он любил,
Где меж красок кутил, где скулил, как собака.
Подходили прощаться. И ложью речей,
Как водою студеной, его омывали…
Он с улыбкой лежал. Он уже был ничей.
Он не слышал, чьи губы его целовали.
Гордо с мамой сидели мы в черных платках.
Из-под траура – щеки: тяжелое пламя.
И отец, как ребенок, у нас на руках
Тихо спал, улыбаясь, не зная, что с нами…
Нет, он знал! Говорила я с ним как во сне,
Как в болезни, когда, лишь питьем исцелимый,
Все хрипит человек: – Ты со мной, ты во мне, –
И, совсем уже тихо: – Ты слышишь, любимый?..
А потом подошли восемь рослых мужчин,
Красный гроб вознесли и на плечи взвалили.
И поплыл мой отец между ярких картин –
Будто факел чадящий во тьме запалили.
Его вынесли в снег, в старый фондовский двор.
И, как в колокол, резкий рыдающий ветер
В медь трубы ударял!
И валторновый хор
Так фальшивил,
что жить не хотелось на свете.
ДУША ЛЕТИТ НАД ЗЕМЛЕЙ. НЕОКОНЧЕННАЯ КАРТИНА
…Прости, прости же, дочь. Ты положила
Туда – с собой – бутылку да икону…
И вот лечу, лечу по небосклону
И плачу надо всем, что раньше было.
И больше до тебя не достучаться.
А лишь когда бредешь дорогой зимней
В дубленочке, вовек неизносимой, –
Метелью пьяной близ тебя качаться.
Я вижу все: как входишь в магазины
И нищую еду кладешь рукою
В железную и грязную корзину,
Плывя людскою гулкою рекою.
Я вижу все – как бьет отравный ветер
Тебя, когда идешь ты узкой грудью
Насупротив такого зла на свете,
Что легче камнем стынуть на распутье.
Я вижу, как – осанистей царицы –
Ты входишь в пахнущие потом залы
Золотоглавой, смоговой столицы,
Которой всех поэтов было мало!
Но слышу голос твой – браваду улиц,
Кипение вокзалов, вой надгробий –
Когда гудишь стихами, чуть сутулясь,
Ты, в материнской спавшая утробе!
О дочь моя! Да ты и не святая.
Клади кирпич. Накладывай замазку.
Пускай, немой, я над землей летаю –
А ты – мои голосовые связки.
Так спой же то, что мы с тобой не спели:
Про бубен Солнца и сапфиры снега,
Про вдовьи просоленные постели,
Про пьяного солдатика-калеку,
Про птиц, что выпьют небеса из лужи,
Пока клянем мы землю в жажде дикой,
Про рубщиков на рынке – и про стужу,
Где скулы девки вспыхнули клубникой,
Про поезда – верблюжьи одеяла
Повытерлись на жестких утлых полках! –
Про то, как жить осталось очень мало
В крутой пурге, – а ждать уже недолго, –
Про то, как вольно я летаю всюду,
Бесплотный, лучезарный и счастливый, –
Но горя моего я не забуду,
И слез, и поцелуев торопливых!
Твоих болезней, скарлатин и корей.
Глаз матери над выпитым стаканом.
Земного, кровяного, злого горя,
Что никогда не станет бездыханным.
И в небесах пустых навек со мною
Искромсанная тем ножом холстина
И мать твоя
над рюмкой ледяною,
Когда она мне все грехи простила.
И только грех один………………………….
***
Тьма стиснута беленою палатой.
На тумбочках печенья тихо спят.
Больные спят, разметаны, распяты.
Бессонные – в тугую тьму глядят.
Скажи мне, кто больной, а кто здоровый?..
Нас замесили. Тесто подойдет
Как раз к утру. Вначале было Слово.
В конце… – …уже никто не разберет…
Им – хлеб и воду! Папиросы пламя!
Им – номер на отгибе простыни…
И так об кружку застучат зубами,
Что спутаю – где мы, а где они…
И я пойму – из кружки той глотая –
Что нет границы, что “они” и “мы” –
Одна любовь, едина плоть святая –
Средь саванной, январской яркой тьмы.
ВСТРЕЧА С САМАРЯНКОЙ
Проходные дворы и метельная хмарь.
Рельсы страшно остры, и машинная гарь.
А за темью двора – хвост павлиний реклам,
Небеса, как дыра, да расстрелянный храм.
Пробежал проходным… Блеск ты, уличный гул!
Из цигарки Он дым жадно так потянул.
И внезапно – из тьмы – по шубейке – коса.
А вокруг – ночь, дымы, голоса, голоса…
"Ты куда?" – "Я – домой.
Детям я – молоко…"
"Посиди миг со мной.
Это – просто, легко".
"Ты рехнулся! Ты пьян…"
Папироса – во снег.
"Каждый лоб – осиян.
Каждый зверь – человек."
"Ну, мужик, ты даешь!..
Так присядем – давай?.."
В сумке – клады: и нож,
И тугой каравай.
И под снежной тоской,
Под метельною мглой
Говорят, говорят,
Говорят – всей душой.
Тяжек белый наряд. Мир неоновый слеп.
Говорят, говорят и едят теплый хлеб,
Поправляет Ему снеговой воротник:
"А тебе бы жену, одинокий мужик!.."
И глазами блестит: я, мол, тоже одна…
И реклама горит в высоте, ледяна.
Это двое чужих, это двое родных:
Умоталась невеста, печален жених –
Баба в шубе потертой, с кухонной сумой,
Подгулявший рабочий, – пора бы домой,
Да смолит он, прищурясь, цигарку свою,
Да целует в ночи Самарянку свою –
Близ колодца ветров, близ колодца снегов,
Ибо вечна Любовь,
быстротечна Любовь.
***
Куда мы премся, милые, огромною толпой?
Что будет за могилою – побудка и отбой?
Куда идем мы, родные?..
А там, куда идем,
Веселые, голодные, под снегом и дождем, –
И плясуны площадные, и сварщики ракет,
И судьи, беспощадные, когда пощады нет,
Чугунные военные и мастера сапог,
И черною Вселенною идущий грозно Бог, –
Там полыхает сводами, там чахнет под замком
Над новыми народами
Он – Сумасшедший Дом!
Там снова скажут правила, как надо есть и пить,
Какая доза радости и польза – в горе жить…
Там снова, чуть замешкайся, прикрикнут: “Лечит труд!” –
И в шахту – тьму кромешную – целебно уберут…
Чаек попьем на тумбочке… Да вафлей похрустим…
Дурак ты, а я дурочка, – так вместе погрустим!
Покуда нам забвения под кожу не ввели,
Покуда откровение – все запахи Земли,
Лицо сестры заплывшее, бегущей со шприцом,
И Время, вдруг застывшее
Возлюбленным лицом.
ЯР. ХОР ЦЫГАН. ОТЧАЯНИЕ
Ах, ты пой, ты пой, ты пой, душа, со мной,
Раскрасавица моя!
По Москве, родной, резной да ледяной,
Меж людей ступаю я.
Меж богатых, сладких, золотых домов –
А за окнами – тоска одна…
Там живая, там великая любовь
В хрусталях погребена.
Как в меня плюют огнями фонари!.. –
И в лицо, и под ребро…
Как мне руки тянут нищие мои
Возле жернова метро!
И метель меня бьет, глядит в меня наган,
Глядит нож из кулака…
Эх, пойду, душа, пойду с толпой цыган,
Сброшу кружево платка!
Юбки их во вьюге, как яблоки, красны,
Кисти шалей – крови струйки: брызнь!..
Кто без мужа, без любимой-без жены,
С ними вместе танцуй в жизнь!
С ними вместе – по Волхонке, по Кремлю,
По Никитской, по Тверской…
Ах, цыгане, больше жизни вас люблю,
Ваши серьги над щекой!
Вместе мы втанцуем в бешеный Арбат.
Пальцы снега по гитаре бьют.
Эх, цыгане, не воротимся назад,
Эх, пускай нас впереди – убьют!
Сливой глаза мне, цыганочка, блести.
Прядь метель низает в жемчуга.
Никогда я жизни не скажу: “Прости!” –
Пусть убьют меня снега.
Пусть бродяга пьяный выстрелит в меня
Или офицер, кому наган – Псалтырь, –
Никому не отдам небесного огня,
Шалью завяжу Простор и Ширь!
По буранному бульвару, цыгане, мы придем
В зеркалами залитый кабак.
Там горлышки шампанского – серебряным дождем!.. –
Льются в рот, за шиворот, в кулак.
Скидавай, цыганки, шубки да платки!
На колени к боровам садись!
Я монистом медным вкруг твоей руки,
Черно-смуглой, обовьюся, жизнь…
Ну, давай, давай, все на столы мечи –
Всю хвалынскую икру!
Ну давай, душа, пляши в седой ночи –
Средь бутылок, на живом ветру!
Эх, наш снег,
наш век
кончается, народ, –
Так в вишневой бахроме пляши,
Так пускай лимона слиток целует жадный рот
За помин живой души!
Вихри юбок кровью крутят между блюд!
Блуд гитары! Где Конь Блед?!
Неужель, цыгане, ужели все умрут,
Деревянный напялят все жилет?!..
Я не верю! Милые! Не верю! Не ве…
Лбом на мрамор столешницы вались…
А в глотку блин толкает, а кости в рукаве –
Молодая, эх, чужая жизнь!
Я свое, цыгане, прожгла и прожила –
В узел связаны веревки дорог… –
Так спляшите, махаоны, мне жизнь мою дотла,
Всю прожгите колесами серег!
Все спляшите – злую сибирскую метель,
Все гранаты – на рынке в чести!
Все спляшите – вагонную утлую постель,
Чай горячий в ледяной горсти…
Все станцуйте – замерзлый рыбный обоз,
Я за ним в Москву в лапоточках шла…
Крест нательный золотых прозрачных слез,
Как метлою я Москву мела…
Все сыграйте – всех веселых мужиков,
Что мне врали: “Люблю!..” – через дугу…
Плащаницы все раскинутых снегов!
Помоги – обернуться не могу
Я в расшитую реками, озерами ткань,
Где бураном вышит Божий Крест…
Что вонзила глаз в меня, кабацкая дрянь?!
Где Норд-Ост мой, где Зюйд-Вест?!..
Нет креста ветров. Нет вериг дорог.
Только эта пляска есть – во хмелю!
Только с плеч сугробных – весь в розанах – платок:
Больше смерти я жизнь люблю.
Ты разбей бокал на счастье – да об лед!
Об холодный мрамор – бей!
Все равно никто на свете не умрет,
Распоследний из людей.
А куда все уйдут?!.. – в нашей пляски хлест!
В нашей битой гитары дрызнь!
Умирать буду – юбка – смерчем – до звезд.
Больше жизни
люблю я
жизнь.
НЕВЕРИЕ ФОМЫ
…Страна, держава гиблая –
Туманы все великие,
Вокзалы неизбывные,
Полны чудными ликами…
Да поезда товарные,
Взрывчаткой начиненные, –
Да нищие пожарные,
В огонь навек влюбленные…
Россия,
сумасшедшая!
Тебя ли петь устану я?
В грязи твоей прошедшая –
В какую святость кану я?!..
В откосы, где мальчишки жгут
Сухие листья палые,
В заводы, где, проклявши труд,
Мы слезы льем подталые?..
Полынь, емшан, седой ковыль,
Кедрач, органом плачущий, –
Да инвалидный тот костыль,
Афганский, рынком скачущий… –
Птичий базар очередей,
Котел кипящий города –
Да лица выпиты людей –
Идут, Предтечи Голода…
Пивной буфетчицы живот…
Костистые ломбардницы… –
А кто во флигеле живет? –
Да дочь наркома, пьяница…
Страна, держава гиблая!
Подвалов вонь несносная… –
Неужто – неизбывная?
Неужто – богоносная?
Неужто Ты еще придешь,
Христе наш Боже праведный,
Из проруби глоток глотнешь
Да из реки отравленной?
Гляди – не стало снегирей
И соловьиной удали, –
Гляди, Христе,
гляди скорей,
Пока мы все не умерли!..
Не верю я, что Ты придешь!
В Тебя – играли многие…
Ты просто на Него похож –
Глаза большие… строгие…
Округ главы твоей лучи –
Снега, небось, растопятся!..
А руки, словно две свечи,
Горят – сгореть торопятся…
Не верю!
Отойдите все.
Голодная, забитая,
В солярной, смоговой красе –
Земля – Тобой забытая…
И чтобы Ты явился вновь,
Во славе, не крадущийся, –
Когда Малюты жгли любовь
Церквей Твоих смеющихся?!
Не верю!..
Покажи ладонь…
Обочь Христа сиял покой.
Из раны вырвался огонь.
И очи защитил рукой
Фома!
…Держава горькая,
Земля неутолимая –
Над водкой и махоркою –
Глаза Его любимые…
В глаза Ему – да поглядеть…
Поцеловать ладонь Ему…
…Теперь не страшно полететь
По мраку по вороньему.
Теперь не страшно песню петь –
Указом запрещенную!
Теперь не страшно умереть –
Любимому,
Прощенному.
РЕВОЛЮЦИЯ
Это тысячу раз приходило во сне.
…Площадь. Черная грязь костоломных снегов.
Лязги выстрелов. Рваное небо в огне.
И костры наподобье кровавых стогов.
На снегу, рядом с лавкой, где надпись: “МЪХА”,
В копьевидных сполохах голодных костров,
В мире, вывернувшем все свои потроха
Под ножами планет, под штыками ветров,
В дольнем мире, где пахнет карболкой и вшой,
И засохшим бинтом, и ружейною ржой, –
Тело тощей Старухи прощалось с душой,
Навзничь кинуто за баррикадной межой.
Поддергайчик залатан. Рубаха горит
Рваной раной – в иссохшей груди земляной.
Ангел снега над нею, рыдая, парит.
Над костром – мат солдатский, посконный, хмельной.
И рубахи поверх ярко выбился крест.
И по снегу – метельные пряди волос.
Кашель, ругань, и хохот, и холод окрест.
Это прошлое с будущим вдруг обнялось.
А Старуха лежала – чугунна, мертва.
Так огромна, как только огромна земля.
Так права – только смерть так бесцельно права.
И снега проходили над нею, пыля!
И под пулями, меж заревой солдатни,
Меж гуденья косматых площадных огней
К ней метнулась Девчонка: – Спаси! Сохрани… –
И, рыданьем давясь, наклонилась над ней.
А у Девочки той стыл высокий живот
На густом, будто мед, сквозняке мировом…
И шептала Девчонка: – Робенок помрет… –
И мечтала о нем – о живом! О живом!
Через звездную кожу ее живота
В пулевом, бронебойном, прицельном кольце
В мир глядела замученная красота
Царским высверком на пролетарском лице.
В мир глядели забитые насмерть глаза
Голодух, выселений, сожженных церквей,
А Девчонка шептала: – Ох, плакать нельзя…
А не то он родится… да с жалью моей!..
И себе зажимала искусанный рот
Обмороженной белой худою рукой!
А Старуха лежала. И мимо народ
Тек великой и нищей, родною рекой.
Тек снегами и трупами, криком речей,
Кумачом, что под вьюгою – хоть отжимай,
Тек торчащими ребрами тонких свечей
И командами, что походили на лай,
Самокруткою, что драгоценней любви!
И любовью, стыдом поджигавшей барак!
И бараком, что плыл, словно храм на Крови,
Полон детскими воплями, светел и наг!
Тек проселками, знаменем, снегом – опять,
Что песком – на зубах, что огнем – по врагу!
…И стояла Девчонка – Великая Мать.
И лежала Старуха на красном снегу.
ВАВИЛОН
О, коли Время можно загасить
Одной ладонью голой,
как свечу!..
Здесь, в Вавилоне, не протянут пить.
Сорвут с плечей рогожу и парчу.
Здесь Вавилон. Его оскал зубаст.
Его глаза звериные красны.
Он слямзит, выжрет, оболжет, продаст.
Он маску мира вздел на рык войны.
По улицам его трусят, трясясь,
Людишки. Морды лошадины их.
И бьется нежное лицо, как белый язь,
В дегтярных топях кабаков ночных.
Я вижу ангелов. Всех херувимов зрю.
Всех серафимов я в анналы лба
Запхала. Вавилонскую зарю
С натуры малевала я, слепа.
Заплеванный мой, каменный мешок,
Любимый город может спать споко… –
Ну, выпьем, Вавилон, на посошок.
Простимся. Разрываться нелегко.
Я дочь твоя. Я дырь твоя и брешь.
Церковная – в За-русско-речье – мышь.
Ты тесаком мне пуповину режь,
Свиным ножом!
Я заплачу барыш.
От улиц блестких, хлестких, дождевых;
От красных башен – зубья чеснока,
Моркови ли, где колокольный дых;
От кусов снега – белого швырка
Купецкого; от ночек, где подвал
Ворочался всем брюхом мне навстречь,
Бутылью, койкой, куревом мигал,
Чтоб закавыкой заплеталась речь,
Чтоб лечь живее,
чтоб обнять тесней,
Чтобы мертвей – метлой в ночи!.. – уснуть…
От воплей Вавилонских матерей,
Чей за сынов гробами – зимний путь;
От следа той Боярыни саней –
Двуперстье – ввысь! – на горностай-снегу;
От подземельных, воющих огней,
Что розвальни железны на бегу
Рассыплют… –
от разряженных цариц,
От нищенки, кудлатой, как щенок, –
Иду я прочь от лучшей из столиц,
Эх, розвальни мои – лишь пара ног!
Я ухожу навек, мой Вавилон.
Москвища ты, Москвишечка, Москва –
Тоска; Москва – Молва; Иван спален
Великий – почернела голова.
Пророчу велий в будущем пожар.
Тебе ли сажи, мать, не занимать?!..
Пророчу огненный, над грузным снегом, шар –
Он все сожжет. Он будет век летать.
И дядьки пьяные, бутылки ввысь подъяв
С-подмышек, из-за пазухи, крича:
– Гори, блудница!.. Смертью смерть поправ!.. –