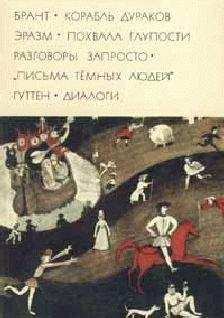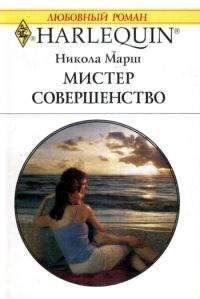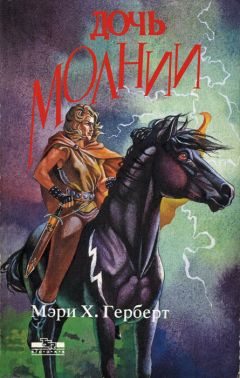Себастиан Брант - Корабль дураков; Избранное
Богатый бюргер-живоглот,
Его я болями замаю,
Ты ж, как бы мимо проезжая,
К нему случайно заверни
И заклинать меня начни.
Я притворюсь, что удираю;
Тебе заплатит он, я знаю,
Червонцев двадцать, только нам
Делить те деньги пополам!»
Так и решили. Черт собрался,
Он в тело к бюргеру прокрался
И всю-то ночь его томил.
А утром лекарь прикатил
И сразу принялся за дело,
И видно было, что умело, —
Он заклинанье прочитал,
И черт от бюргера отстал.
За это лекаря хвалили
И в благодарность отвалили
Все тридцать талеров ему.
Пришел он к другу своему,
Ему дал десять, для себя же
Оставил двадцать, впрочем, даже
Соврал, что двадцать получил.
Но черт мгновенно раскусил,
Что на пятерку был обсчитан,
А все-таки пока молчит он,
И, притворившись простачком,
Он молвит: «Мне еще знаком
Один каноник толстобрюхий,
Живущий со своей стряпухой.
К нему я в пузо заберусь
И там усердно поверчусь,
А ты к нему с утра являйся
И заклинаньем занимайся.
Тут дело верное, гляди!
Большие деньги впереди».
Так и решили. Черт собрался,
В живот каноника прокрался,
Попа изрядно истомил,
А утром лекарь прикатил.
К нему стряпуха выбегает,
Его поклонами встречает
И двадцать гульденов сулит,
Коль он больного исцелит.
С охотой лекарь согласился
И беса заклинать пустился.
Как накануне, он старался,
Но черт никак не поддавался,
Да и канонику шепнул:
«Вас этот лекарь обманул!
Он и меня-то обокрал
И сам себя же покарал:
Не помогают заговоры,
Когда их произносят воры!»
Перепугался лекарь тут:
Так, чего доброго, побьют!
Из дому выбежал он было,
Но вдруг его как осенило:
Он снова в комнату вбежал
И крикнул: «Черт! Что я видал!
Тебя старуха разыскала,
Бумагу из суда достала
И ожидает где-то тут,
Чтоб увести тебя на суд.
Еще наплачешься ты всласть!»
Тут черт воскликнул: «Вот напасть!
Так эта ведьма здесь опять!
У ней бумаги и печать!
Ну нет! У этакой яги
Моей не будет и ноги!
Тогда уж лучше снова в ад!
Прощай навеки, мой собрат!»
И черт исчез — лишь вонь осталась.
Что в этом шванке заключалось,
Любой постигнет без труда.
Бывает в жизни иногда,
Что муж с женой живут неладно
И даже ссорятся изрядно;
Никто не хочет уступить,
Им что ни день труднее жить.
Один другого укоряет,
Клянет, ругает, презирает,
А то и драку заведут,
Все поломают, перебьют,
Все изорвут от злости в клочья,
Покоя нет ни днем, ни ночью.
Храни господь нас всеблагой
От жизни дьявольской такой!
Когда в семействе мир и лад,
Ганс Сакс тому бывает рад.
УПРЯМЫЙ МОНАХ И КУВШИН
218
Есть подле Регенсбурга219 братство —
Картезианское аббатство.220
Монах там престарелый жил,
И он весьма заносчив был,
Высокомерен и спесив,
Упрям, надменен и сварлив.
Ничто не мило потому
В монастыре было ему.
Ему мешали стар и млад
Тем, что молитвы говорят,
Ему заутрени мешали,
Ему все службы докучали,
И в капитуле и в застольной
Всегда сидел он недовольный.
В монастыре старинном том
Все было вечно не по нем.
Считал он, что любое дело
Он сам бы выполнил умело
И лучше, чем велит устав.
Был у него строптивый нрав.
Он за деяния свои
Дня не жил без епитимьи.221
Что день, когда ночной порой
Не мог он обрести покой:
То замурлычет где-то кот,
А то петух вдруг запоет,
То воет волк, то заскребут
В подполье мыши, то доймут
Его клопы, то птичий гам,
То квакают лягушки там,
То спать мешает лай собак, —
Покоя не найти никак.
Он в келье жил две-три недели,
Потом в другой селился келье,
Но он и там недолго жил,
Покоя все не находил.
Так он терзался целый год.
И вот к игумену222 идет
Сказать о том, что в этом месте
К нему не сходит благочестье
И божьей благодати в нем
Нет ночью, ни тем паче днем.
Тем о своем он состоянье
И завершил повествованье,
Что попросил о разрешенье
Хоть месяц жить в уединенье,
В лесу, где скит укромный был,
Где некогда отшельник жил.
Там он покой найти мечтал.
Игумен спорить с ним не стал,
И он, лишь разрешенье дали,
В тот лес, что Прюльским223 называли,
Пошел, чтоб святость обрести.
С собой решил он унести
Из монастырских стен один
Лишь только глиняный кувшин.
В кувшин он воду набирал
В ручье, бежавшем между скал.
Однажды богу он молился
В своем скиту и восхитился
Вокруг стоявшей тишиной.
А сам подумал — здесь покой
Я обрету, и, видит бог,
Здесь буду жить я без тревог,
Тут скоротаю без помех
Я свой отшельнический век.
Торчал огромный гвоздь в дверях,
И на него всегда монах
Кувшин свой вешал, и его
В часы моленья своего
Всегда он задевал. Вот раз,
Наткнувшись на кувшин, тотчас
Его со злобой выставляет
За дверь. А солнце припекает.
Был жаркий день, вода согрелась,
И пить ее уж не хотелось,
И хлеб сухой пришлось жевать.
Он в келью внес кувшин опять.
Пускай кувшин теперь в углу
Стоит на земляном полу,
Чтоб холодна была водица.
И надо же опять случиться,
Чтобы он темной ночью встал
И вновь читать молитву стал,
И вновь, колени преклоняя,
Кувшин, наполненный до края,
Толкнул, и келью затопил,
И, рассерчавши, завопил:
«В кувшин не иначе, как бес,
Чтобы подгадить мне, залез».
И снова утренней порой
Кувшин, наполненный водой,
Чтоб сохранить прохладу в нем,
Монах повесил над столом.
Когда же он обедать сел
И хлеб свой монастырский ел,
Пить захотелось вдруг ему.
А он ко времени тому
Забыл, куда кувшин девал.
И, чтоб найти его, он встал,
И свой кувшин задел плечом,
И воду вылил ту, что в нем,
Всю на себя, и весь промок.
Уж тут сдержаться он не мог!
Пошел ругаться, что есть сил,
И оземь свой кувшин разбил,
И, гнев не в силах удержать,
Осколки принялся топтать…
Крушил их вдребезги старик
И вдруг задумался на миг:
«Да ведь всему виной я сам!
Нетерпелив я и упрям!
При нетерпении моем
С кувшином глиняным вдвоем
Я не ужился. Невдомек,
Как жить в монастыре я мог
С монахами. Моя вина
Теперь мне самому видна.
Ведь мне вредит не кто иной,
Как только нрав упрямый мой.
А если мне и впрямь нужна
Для размышлений тишина,
Я буду более терпим.
Отныне странностям своим
Не буду следовать ни в чем.
Свой день заполню я трудом,
И тем я людям долг отдам.
Я в монастырь вернусь, и там
Теперь я буду терпелив.
Свой вздорный норов укротив,
Жить с братьями я буду рад».
На третий день оставил брат
Лесную келью. Возвратился
В свой монастырь, там поселился,
И в нем монашеское пенье
Не вызывало раздраженье,
Теперь он был доволен всем,
Так что исправился совсем.
Вот так-то и пришел покой
К нему и к братии другой.
И шванку тут конец. Итак,
Теперь увидеть может всяк,
Мужчины, женщины и дети,
Что недовольный всем на свете,
Все в этом мире обругав,
Коль у него строптивый нрав
И злой язык, имеет свойство
Себе доставить беспокойство,
И, хоть весь мир им обличен,
Но видят все, что стоит он.
Коль хочет он найти покой,
Стыдился б вздорности такой,
Умел бы укрощать строптивость
И даже соблюдать учтивость.
С собой не сможешь совладать,
Так будешь мучиться опять.
Не будем о делах другого
Мы говорить худого слова,
И, коль не будет суд поспешен,
Скорей он скажет: «Сам я грешен!
Теперь я понял, что напрасно
Себя терзаю ежечасно,
И сам же десять раз на дню
Напрасно вред себе чиню.
А люди в этом невиновны».
В том, что, когда дела греховны,
Рассудок лишь один спасет
И от греха, и от невзгод,
И от напрасного волненья,
У Ганса Сакса нет сомненья.
СОБАЧИЙ ХВОСТ
224
С друзьями как-то поздним часом
Я сел за ужин. Рыбой, мясом
И дичью стол уставлен был,
И каждый вдоволь ел и пил.
Закончивши обильный ужин,
Решили все, что отдых нужен,
И разошлись из-за стола.
Беседа прервана была.
Пока гуляли гости, в зале
Столы еще раз накрывали.
Хозяин вновь позвал гостей
Вина отведать и сластей.
Сперва текла беседа чинно,
Но вскоре сладости и вина,
Развеселив мужчин и дам,
Придали смелость языкам;
Заговорили все свободней…
Поднялся спор: кто благородней,