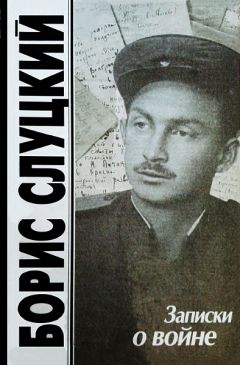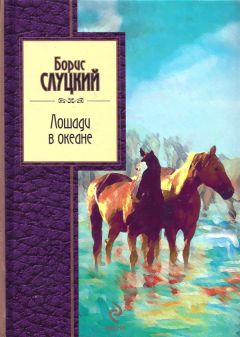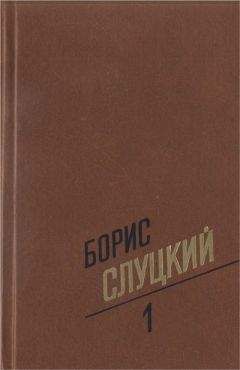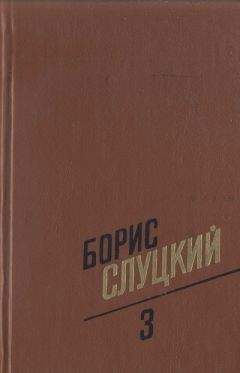Борис Слуцкий - Покуда над стихами плачут...
К истории моих стихотворений
* * *Начну с «Лошадей в океане».
Написаны в 1951 (?) году летом в большую жару. Я снимал тогда комнату близ Даниловского рынка у интеллигентного переплетчика Терушкина, купившего часть дома, в котором жили Фрейдины. Иными словами, жил по месту прописки — единственный раз за 11 лет. Обычно, когда участковый приходил к Фрейдиным и спрашивал: «А где Слуцкий? Что-то я его не вижу», — один из сыновей назывался Слуцким, и тем дело кончалось.
Итак, я жил по месту прописки, но комната была жаркая, а на кровати лежал матрас со стальными пружинами особой конструкции, такими, что спать было невозможно. Рядом учил уроки Анри Терушкин, мальчик, сын хозяина.
Я уходил из дому и подолгу бродил в окрестностях, где тоже было жарко, но ни Анри, ни матраса, который надо было разлежать собственной спиной, не было.
Как-то вспомнился рассказ Жоры Рублева об американском транспорте с лошадьми, потопленном немцами в Атлантике. Жора вычитал это в каком-нибудь тонком международно-политическом журнале вроде «Нового времени», откуда обычно черпал вдохновение.
Я начал писать с самого начала со строк: «Лошади умеют плавать, но нехорошо, недалеко» — и очень скоро (а в те годы я писал еще очень медленно) написал все. Правил после мало.
Это почти единственное мое стихотворение, написанное без знания предмета. Почти. В открытое море я попал впервые лет 15 спустя. Правда, как плавают лошади, наблюдал самолично, так как ранней весной 1942 года переплыл на коне ледовитую подмосковную речку.
Это сентиментальное, небрежное стихотворение до сих пор — самое у меня известное.
Даже Твардовский, хвалить чужие стихи не любивший, сказал мне (в Париже, в 1965-м), что он эти стихи заприметил:
— Но рыжие и гнедые — разные масти.
Даже Смеляков, рассуждая о том, как составлять циклы для антологии советской поэзии, в числе других примеров привел:
— Ну, у Слуцкого надо взять «Лошадей в океане», «Физиков и лириков», еще что-нибудь.
Стихи так нравились Эренбургу, что я их ему посвятил.
Когда я, познакомившись с Марьей Степановной Волошиной[71], читал ей и Анчутке о лошадях, она сказала, что это настоящее христианское стихотворение.
Когда (наверное, в 1952 году) читал стихи Н. С. Тихонову, он сказал, что печатать ничего нельзя, разве «Лошадей»:
— Знаете, как у Бунина о раненом олене: «Красоту на рогах уносил»?
Напечатал «Лошадей» Сарнов в «Пионере» (в 1956 году, наверное) как детское стихотворение о животных. Это обстоятельство тогда веселило моих знакомых. Вскоре Вадим Соколов и Атаров (последний с большими идеологическими сомнениями) перепечатали «Лошадей» в «Москве», и потом их перепечатывали десятки раз.
Я знаю четыре польских перевода, несколько итальянских. На «Лошадей» написано несколько музык. Говорят, нищие пели их в электричках.
На вечерах первые строки иногда встречались хохотком публики, медленно привыкавшей к нешуточному повороту дела.
Мне до сих пор понятны только внешние причины успеха — сюжетность, трогательность, присутствие символов и подтекстов. Это никак не объясняет успеха стихотворения у квалифицированного читателя.
«Лошади» — самое отделившееся от меня, вычленившееся, выломавшееся из меня стихотворение.
Р. S. Умер Аркадий Васильев[72], интересовавшийся всем на свете, в том числе и поэтами. После первого инсульта (а умер он, кажется, от третьего) у него отнялся дар речи, столь ему необходимый. Врачи посоветовали ему повторять до бесконечности какое-нибудь хорошо ему известное стихотворение.
— Я, знаешь, твоих «Лошадей» наизусть помню. И вот начал я их твердить, сначала медленно, потом все быстрее.
Рассказывал мне это Васильев еще заплетающимся языком. Позднее дар речи вернулся к нему почти полностью, и он широко им пользовался[73].
Беляев, вызвавший меня к себе по непростому делу, предварил сложный разговор рассказом о том, как его дочь читала «Лошадей в океане» на выпускном вечере и как всему его семейству эти лошади нравятся.
Поговорив о лошадях и о дочерях (я, помнится, не посоветовал отдавать дочь в Литинститут), мы приступили к делу.
Последуем совету Смелякова и «возьмем».
* * *«Физики и лирики» тоже не совсем мое, тоже отделившееся от меня стихотворение. Написано летом 1960 (?) года в лодке на Оке близ Тарусы, где мы с Таней[74] мучились от жары и мух.
Катали на лодке нас Андрей Волконский с женой Галей Арбузовой. Волконский говорил без передышки, желчно, как космополит из «Крокодила», ругал литературу своих тестей, Арбузова и Паустовского[75], а потом, разошедшись, до Л. Толстого включительно. Говорил о своем происхождении, о том, что «Таруса была наша», и т. п.
Я сперва прислушивался, спорил, жалел Галю, а потом под шум мотора и Волконского написал стихотворение и очень опасался, что забуду его до берега, не запишу. Потом все жарили рыбу, а я быстро записал в блокноте.
Проблема была животрепещущей, как эта же рыба. Только что в «Комсомолке» технари Полетаев и Ляпунов резко спорили об этом же с Эренбургом[76].
М. А. Суслов[77], принимая Илью Григорьевича, сказал ему между прочим: «Спасибо, что защитили ветку сирени». Мнения разошлись едва ли не в глобальных масштабах, и я поддержал в споре не Илью Григорьевича, а его противников. Он отнесся к этому со сдержанным недоумением.
Товарищи по ремеслу сперва отнеслись к «Физикам и лирикам» как к оскорблению профессии. Миша Дудин, когда ему сказали, что стихи шутливые, сказал: «А мы шуток не понимаем». Смеляков, когда его попросили выступить в печати, сказал примерно так, что с этим нужно бороться, но стихами.
Защищали «Физиков и лириков» лениво, похоже, что больше отстаивали право на мнение, пусть неправильное, чем само стихотворение. Ругали горячо, зло.
Между тем не слишком политический шум этой дискуссии, поднятый в слишком политическое время, был безобиден и даже полезен.
Постепенно к «Физикам и лирикам» привыкли. Пьеса с тем же названием до сих пор идет в Москве, и на премьеру меня не позвали. Ашукины включили название стихотворения в свой сборник «крылатых слов», и это единственный мой оборот, удостоенный такой чести.
Напечатал стихи С. С. Смирнов в «Литгазете» с двумя довольно плохими стихотворениями о космосе, данными мной для подверстки и прикрытия.
В академической «Истории советской литературы» всему этому посвящен абзац или два, но библиография вопроса насчитывает сотни названий.
В разгар спора академик В. В. Шулейкин, специалист по физике моря (говорят, не очень большой специалист), прислал мне длинное рифмованное утешение: не так, мол, уж плохи дела у вашего брата, поэтов.
Сейчас, в 1972 году, летом в большую жару, в ивантеевской гостинице, я продолжаю думать, что дела у нашего брата достаточно плохи. Сократилась доля общественного внимания, получаемая нашим братом, да и распределяется эта доля хуже, чем прежде. Основные ломти получают не глубочайшие, а шумнейшие.
Впрочем, как и многое другое, «Физиков и лириков» писал я не столько от себя, сколько от людей примерно моего мнения.
К слову о «Крылатых словах»: Крученых[78] как-то сказал мне (скорее всего, на улице), что в очередном издании книги Ашукиных всего два крылатых оборота современных поэтов:
— Мое — «заумь» и Михалкова — «Союз нерушимый республик свободных…». Мое лучше.
* * *«Госпиталь» в моей литературной судьбе имеет чрезвычайное, основополагающее значение. На этом стихотворении я, собственно, и выучился писать. Сочиненная примерно за год до этого «Кёльнская яма» тоже стихи, но сочиненные как бы сами по себе, по вдохновению, и притом сразу, в одну ночь. А «Госпиталь» задумывался, выстраивался, писался, переписывался в течение многих месяцев, точнее говоря, лет. На нем понято мною больше, чем на любом другом стихотворении, и долгие годы мне хотелось писать так, как написан «Госпиталь», — «взрыв, сконцентрированный в объеме 40 ± 10 строк». Весь мой лихой набор скоростных баллад пошел именно с «Госпиталя». В «Кёльнской яме» тема (война) уже была, отношение к теме тоже было, но формы не было.
Первый вариант написан осенью 1945 года в румынском городе Крайове, где я на свой лад отдыхал после войны и праздновал ее окончание. Стихов я до этого декабря (а может быть, октября, надо вспомнить) не писал больше года; после этого месяца, когда были написаны еще «Иваны» (сразу, в румынской бане, где вместе мылись наши и местные с похожими шрамами и телесными деформациями) и стихотворение об адвокате Зарудном, которое я не перечитывал после этого месяца — еще три года.
Летом того же 45-го года я записал две общих тетради заметок, мемуаров, как я их называл — тоже о войне и о первых послевоенных месяцах.