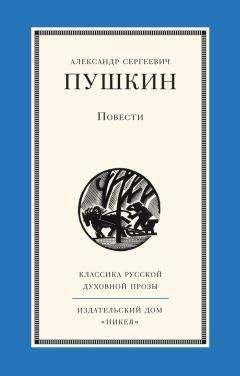Александр Пушкин - Медный всадник
Чередование этих двух противоположных определений социального облика героя (богатый денди — бедный чиновник) проходит и по другим позднейшим редакциям вступительных строф поэмы (см. настоящее издание, с. 95-96), где особенно выразительны две противоположные редакции второй строфы на отдельном листе (ПД 953). В первой из этих редакций, близкой к приведенной выше, читаем:
В конурку пятого жилья
Вошел один чиновник бедный…
На обороте того же листа находится другой текст, оставшийся в необработанном черновике: в нем молодой денди по фамилии Волин (?),
Взбежав по ступеням отлогим
Гранитной лестницы своей,
бранит слугу Андрея, ворча идет в кабинет, где его встречает любимый пес Цербер, и т. д. Барский особняк, «безмолвный» или «роскошный» кабинет, «темный» или «скромный», «тихий», «мирный» кабинет, «чулан», «чердак», «конурка пятого жилья» — таков широкий и необычайно выразительный диапазон, охваченный пушкинскими замыслами. Но постепенно «скромный» кабинет и даже «чердак» начинают превалировать. Герой Иван Езерский — молодой, очень бедный, мелкий чиновник, труженик, влюбленный в «младую немочку» из мещанской семьи, обитающей в Коломне. На этих данных должен строиться сюжет, нам неизвестный, восстановить который нет возможности. А богатство, «роскошный кабинет», знатность отодвигаются в прошлое, и уже в первой (известной нам) черновой рукописи, продолжающей экспозицию (ПД 842; см.: Акад., V, 394-404), поэт сообщает «род и племя» героя, т. е. историю старинного, некогда знатного и богатого рода дворян Езерских, последним представителем которого является коллежский регистратор, живущий «в конурке пятого жилья». В связи с этим возникает, полемически обсуждается и разрешается ряд важных для поэта вопросов, составляющих содержание известных нам (и, по-видимому, почти всех написанных) строф задуманной им поэмы. Вопросы эти следующие:
1) родословие Езерских, от начала рода до отца героя и до него самого;
2) упадок дворянства и его современное общественное положение;
3) изображение «ничтожного героя»;
4) право поэта на свободный выбор героя и на свободу творчества вообще.
«Родословие» Езерских начинается с их родоначальника, варяжского «воеводы» Одульфа, существование которого нужно отнести к концу IX — началу X в. Тем самым Пушкин изображает род Езерских как один из древнейших русских дворянских родов — наравне с князьями Рюриковичами и древнее рода самого поэта, начинающегося с Радши, или Ратши (Рачи), выходца из «немец» в XII в., или даже, как считал сам Пушкин, служившего «мышцей бранной Святому Невскому», т. е. около 1240 г.425 Вообще родословие Пушкиных, как оно изложено им самим в его мемуарно-генеалогических трудах и даже в «Моей родословной», послужило ему во многом материалом для родословия Езерских, в том числе и для строф, исключенных при составлении окончательного белового текста. Однако если в родословии Пушкиных поэт подчеркивает их независимость, мятежность («Противен мне род Пушкиных мятежный», — говорит о них Борис Годунов — Акад., VII, 45), то в родословии Езерских, по крайней мере с начала XVII в., указывается на беспринципность и «приспособленчество» многих из них «во дни крамолы безначальной», когда «князь да твердый мещанин» (т. е. князь Пожарский и Козьма Минин) «спасали Русь» и даже «за отчизну стал» один «нижегородский мещанин»:
В те дни Езерские немало
Сменили мнений и друзей
Для пользы общей (и своей).
Необходимо, однако, помнить, что при пересмотре и сокращении родословной эта строфа — вероятно, по цензурным соображениям — была вычеркнута Пушкиным: поведение Езерских оказывалось несовместимым с официозными представлениями об исторической роли дворянства.
Такой же критический тон — с оттенком иронии — выдерживается и в следующих строфах родословия. Вычеркнув — опять-таки, в значительной мере по цензурным соображениям — хронику Езерских при Петре I и его преемниках, Пушкин оборвал ее словами: «При императоре Петре…» — и перешел к другой теме. Для читателя неясно, хотел ли сказать поэт о Езерских в петровское время, когда они «явились опять в чинах и при дворе». Но черновик отброшенной строфы показывает иной поворот в судьбе их рода — прямо перенесенный сюда из родословия Пушкиных:
При императоре Петре
Один из них был четвертован
За связь с царевичем…
Такой же была судьба и одного из боковых предков Пушкина — Федора Матвеевича, казненного в 1697 г. за участие в стрелецком заговоре.
В родню свою неукротим
С Петром мой пращур не поладил
И был за то повешен им, —
писал о нем Пушкин в «Моей родословной» (Акад., III, 262). Зато другие Езерские, не в пример Пушкиным возвысившись при Петре, при преемниках последнего продолжали по-прежнему легко менять свои убеждения.
Вершины знатности Езерские достигают при Екатерине II в лице Матвея Арсеньевича Езерского, деда героя поэмы, попавшего «в случай», прославившегося «умом и злобой зверской», а затем сосланного в свои поместья, в которых он «имел пятнадцать тысяч душ». С этого момента, по-видимому, и начинается падение Езерских, о котором рассказывается в X строфе, заканчивающейся двумя строками, посвященными внуку Матвея, Ивану Езерскому:
А сам он жалованьем жил
И регистратором служил.
Но, вычеркнув все, относящееся к судьбе Езерских в XVIII в., и оборвав хронику их рода словами
При императоре Петре…
Пушкин перешел (в той же V строфе окончательного текста) к другому вопросу, очень занимавшему и даже волновавшему его в конце 20-х и начале 30-х годов, — к вопросу о современном упадке старинного дворянства, не только материальном, но и моральном, выражающемся в забвении связей своих родословных с историей Русского государства. К этой мысли он возвращался не раз, противопоставляя старинное дворянство, тесно связанное в течение многих веков и со славой и с бедствиями родной страны, безродным «аристократам», выдвинувшимся на первые места придворной, т. е. по существу лакейской, службой. Этой мысли посвящена сатирическая «Моя родословная», стихотворение 1830 г., вызванное выступлениями Булгарина и Полевого против «литературной аристократии». О том же говорится и в ряде эпиграмм 1829-1830 гг., и в статьях, писавшихся болдинской осенью 1830 г. и предназначенных для «Литературной газеты», как «Опровержение на критики», «Опыт отражения некоторых нелитературных обвинений» (Акад., XI, 143-163 и 166-174) и др., а также в повествовательных набросках неосуществленных замыслов того же времени: «Гости съезжались на дачу…» (VIII, 42; эти мысли выражены в «разговоре с испанцем», почти буквально совпадающем с текстом второй половины V, VI и VIII строф «Езерского»), «Роман в письмах» (VIII, 49, 53), «На углу маленькой площади…» (VIII, 143-144), несколько замечаний в «Отрывке» («Несмотря на великие преимущества…» — VIII, 409-410). Та же мысль о расслоении дворянства и падении старинных родов составляет завязку «Дубровского», где противопоставлены выдвинувшийся в екатерининское время генерал-аншеф Троекуров и обедневший его сосед, поручик гвардии Дубровский (VIII, 162).
С размышлениями об упадке современного дворянства, о забвении им своего исторического прошлого и связи истории рода с историей страны, народа и государства связана у Пушкина и другая мысль — о возвращении «к земле», к «своим поместьям родовым» (строфа IX). Мысль эта, возникшая у поэта еще в первую болдинскую осень (1830 г.), затем все более укреплялась в нем, по мере того как, будучи «прощен и милостью окован» (см. строфу VI первоначальной редакции «родословия»), он все более «прикреплялся» к столице, жизнь в которой не давала ему возможности ни свободно дышать, ни работать. Ряд стихотворений 1833-1836 гг. углубляет и развивает эту мысль («Осень», «Пора, мой друг, пора…», «Вновь я посетил…», «Когда за городом, задумчив, я брожу…» и др.).
Таковы историко-политические размышления Пушкина, вызванные замыслом поэмы о бедном чиновнике Езерском.
Другая линия размышлений, эстетико-литературная, начинается с XI строфы поэмы, вызванная определением героя как мелкого чиновника, который «жалованьем жил и регистратором служил». Здесь и в последующих строфах сильнее, чем где бы то ни было, декларируется и утверждается право поэта на изображение «ничтожных героев», вопреки требованиям и нападкам критики, в особенности Булгарина и Греча, апологетов официально признанных и одобренных литературных тем и героев, а также Полевого, сторонника героев романтического типа. «Ничтожный герой», как было показано выше, с конца 20-х годов широко и разнообразно входит в творчество Пушкина. Поэтому обоснование права поэта на изображение подобных персонажей, в отличие от литературных героев и от реальных, официально утвержденных и требуемых лжегероев («русских Камиллов и Аннибалов»), было чрезвычайно важным вопросом для автора «Домика в Коломне», «Повестей Белкина» и «Езерского». Этот, казалось бы, частный вопрос здесь же расширяется до общей проблемы свободы творчества — проблемы, поставленной и разрешенной в XIII и XIV строфах начатой им поэмы о коллежском регистраторе Езерском.