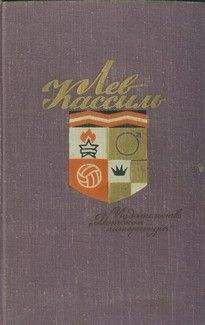Давид Самойлов - Стихи
(Вбегает черт)
Ч е р т
Беда! Беда! Жуан в аду
Дебош устроил. Сел в жаровню,
Кричит: «Не так! Поставьте ровно!
Кладите дров, не то уйду!
Побольше масла! Жарьте шибче!
Я знаю, на мои ошибки
В самом аду не хватит дров».
Мы жжем.
В е л ь з е в у л
А он?
Ч е р т
Вполне здоров.
Кричит: «Шпана! Сажайте вилы
Вот в этот бок. Когда любила
Меня мадам де Попурри,
Мне было жарче, черт дери!
Побольше масла, чтоб, как пончик,
Я был поджарен, как гренок,
Был жирен! Больше дров у ног!»
Нам с ним вовеки не покончить.
Влюбил окрестных дам и дев.
Мигает им, рукою машет.
Знакомых встретил, пьет из чаши
Он олово и, захмелев,
Кричит, что хуже пил он зелье,
Что знал и худшие постели…
Мы утомились, не сумев
С ним сладить.
В е л ь з е в у л
Привести Жуана!
(Все это в высшей мере странно!)
(Входит Жуан)
Д о н — Ж у а н
Я здесь. Кто звал меня?
В е л ь з е в у л
До нас
Дошли такого рода слухи:
Что шлюхи все и потаскухи
Тобой совращены. И раз
Ты не сумел в аду с почетом
Вести себя и по подсчетам
Истратил двести кубов дров —
Ступай на землю. Будь здоров.
Д о н — Ж у а н
Прискорбно слышать. Но увы —
Уйду. Меня прогнали вы.
(Чертям)
Эй черти! Дать штаны
с лампасом.
Где плащ? Где шпага? Пистолет?
Где шляпа? Где ботфорты? Нет!
Не те: а эти. По рассказам
Вот так я должен быть одет.
Готово. В путь пора. Синьоры,
Я вновь иду к вам. Где мужья,
Дуэньи, тетки? Вот моя
Со мною шпага. Вновь укоры,
Влюбленья страстные, глаза,
Обманы и монеты за
Уменье лгать.
Теперь не скоро
Я вас увижу, господа.
Прощайте, может, навсегда.
(Уходит)
ЗАНАВЕС1938 год
К ОБРАЗУ ДОН-ЖУАНА В ПОЭЗИИ Д. САМОЙЛОВА
«Конец Дон-Жуана» написан в восемнадцатилетнем возрасте. Почти через сорок лет, в 1976 году, появился «Старый Дон-Жуан». Помнил ли сам автор о своем юношеском опыте? Не сомневаюсь. На это есть и указание в самом тексте, где Череп Командора говорит: «Сорок лет в пыли и прахе я валялся в бездорожье». Повторное обращение к одной и той же теме, герою, мотиву для Самойлова отнюдь не исключение, скорее закономерность. Стиховых пар наберется, конечно, гораздо больше, чем поэмных, но и перекличка «Чайной» и «Шагов Командора», «Ближних стран» и «Первой повести», «Снегопада» и «Возвращения» тоже весьма симптоматична. Как будто в разных зеркалах отражаются одни и те же или похожие события и люди. Возвращение к самому себе — предмет особого исследования, если брать поэтическое наследие Д. Самойлова в целом. Здесь, в пояснении к публикации одной из ранних поэм, этот поворот взгляда может быть лишь обозначен как документальный факт и как заявка на его изучение. Случай Дон Жуана наиболее прозрачен, поэтому с него легко начинать.
Юношеская поэма «Конец Дон-Жуана», естественно, еще далека от стилистического совершенства. Здесь и вкрапление фаустианских мотивов (появление Мефистофеля), и торчащие автобиографические ушки, и отзвуки злободневности:
В е л ь з е в у л
Любил ли Пастернака?
Д о н — Ж у а н
Любил, и очень, но однако…
В е л ь з е в у л
Без оправданий! Есть грехи.
Как формалиста, в вечный пламень.
Но — что важно — Дон Жуан, по сюжетному повороту попадающий на тот свет, остается и там нераскаянным грешником: «Я знаю, на мои ошибки в самом аду не хватит дров». Своеобразный стоицизм и отрицание Страшного суда. Тот свет изображен, как этот. Бравый забияка Дон Жуан не только не сникает, не боится и не теряет лица, а вносит смуту в мрачную атмосферу ада, и, не найдя управы на бьющую через край жизненную силу, его высылают обратно на этот свет за «нарушение режима».
Он благополучно старится согласно законам природы и с протестом против этих законов («Старость — ничего нет гаже», «Неужели смерти мало, что ты нас караешь дважды») появляется уже на страницах «Старого Дон-Жуана». Поблекший, грустный, но стоящий на своем: «Ни о чем жалеть не стоит, ни о чем не стоит помнить». Неверие ни в наказание, ни в награду там, где «тьма без времени и воли», по-прежнему при нем, как и у того задорного весельчака и любителя наслаждений сорок лет назад.
Приведу мнение автора о своем персонаже, изложенное в письме к Л. К. Чуковской (июнь-июль 1976 г.):
«О Дон-Жуане Вы правильно судите, соизмеряя его с собой. Но я где-то тоже его соизмеряю с Вами и не в его пользу.
Его старость — расплата за бездуховность, за безделие, за отсутствие творчества и идеализма. Вот как я это понимаю. Он бабник, прагматик — таковы большинство из нас. И за это карает старость. Но это общая идея. А еще есть тип, который мне во многом нравится, — лихой малый, дуэлянт, который Черепа испугался лишь от неожиданности. И который где-то вдруг прозревает: «А скажи мне, Череп, что там — за углом, за поворотом?»
К тому же и ремарки ловко вставлены в стих. Это же удовольствие. Очень прошу Вас быть поснисходительнее к этому человеку. И к автору тоже». Но это еще не все. В рукописных стиховых тетрадях я нашла наброски к «Юному Дон-Жуану», помеченные 1988 годом:
По Кастилии суровой
Едет юный Дон-Жуан,
Полон счастья и надежды
И влюбляется во всех.
В сеньориту молодую,
И в служанку разбитную,
И в крестьянку полевую,
А влюбляться — разве грех.
Он совсем не соблазнитель,
Просто юный человек.
Нескончаемое счастье —
В этом мире пребывать —
Уходить, не возвращаться,
Целовать и забывать.
Едет он, отмечен Богом
И на пекло обречен,
И легендами оболган
И любимыми прощен.
Как видим, круг замкнулся — на восславлении этой, посюсторонней жизни. Ибо другой не дано, да и не надо.
Образ Дон Жуана при всех трех попытках обращения к нему сохраняет у Самойлова свою целостность и единство.
Пестель, Поэт и Анна
Там Анна пела с самого утра
И что-то шила или вышивала.
И песня, долетая со двора,
Ему невольно сердце волновала.
А Пестель думал: "Ах, как он рассеян!
Как на иголках! Мог бы хоть присесть!
Но, впрочем, что-то есть в нем, что-то есть.
И молод. И не станет фарисеем".
Он думал: "И, конечно, расцветет
Его талант, при должном направленьи,
Когда себе Россия обретет
Свободу и достойное правленье".
— Позвольте мне чубук, я закурю.
— Пожалуйте огня.
— Благодарю.
А Пушкин думал: "Он весьма умен
И крепок духом. Видно, метит в Бруты.
Но времена для брутов слишком круты.
И не из брутов ли Наполеон?"
Шел разговор о равенстве сословий.
— Как всех равнять? Народы так бедны, —
Заметил Пушкин, — что и в наши дни
Для равенства достойных нет сословий.
И потому дворянства назначенье —
Хранить народа честь и просвещенье.
— О, да, — ответил Пестель, — если трон
Находится в стране в руках деспота,
Тогда дворянства первая забота
Сменить основы власти и закон.
— Увы, — ответил Пушкин, — тех основ
Не пожалеет разве Пугачев…
— Мужицкий бунт бессмыслен… —
За окном
Не умолкая распевала Анна.
И пахнул двор соседа-молдавана
Бараньей шкурой, хлевом и вином.
День наполнялся нежной синевой,
Как ведра из бездонного колодца.
И голос был высок: вот-вот сорвется.
А Пушкин думал: "Анна! Боже мой!"
— Но, не борясь, мы потакаем злу, —
Заметил Пестель, — бережем тиранство.
— Ах, русское тиранство-дилетантство,
Я бы учил тиранов ремеслу, —
Ответил Пушкин.
"Что за резвый ум, —
Подумал Пестель, — столько наблюдений
И мало основательных идей".
— Но тупость рабства сокрушает гений!
— На гения отыщется злодей, —
Ответил Пушкин.
Впрочем, разговор
Был славный. Говорили о Ликурге,
И о Солоне, и о Петербурге,
И что Россия рвется на простор.
Об Азии, Кавказе и о Данте,
И о движенье князя Ипсиланти.
Заговорили о любви.
— Она, —
Заметил Пушкин, — с вашей точки зренья
Полезна лишь для граждан умноженья
И, значит, тоже в рамки введена. —
Тут Пестель улыбнулся.
— Я душой
Матерьялист, но протестует разум. —
С улыбкой он казался светлоглазым.
И Пушкин вдруг подумал: "В этом соль!"
Они простились. Пестель уходил
По улице разъезженной и грязной,
И Александр, разнеженный и праздный,
Рассеянно в окно за ним следил.
Шел русский Брут. Глядел вослед ему
Российский гений с грустью без причины.
Деревья, как зеленые кувшины,
Хранили утра хлад и синеву.
Он эту фразу записал в дневник —
О разуме и сердце. Лоб наморщив,
Сказал себе: "Он тоже заговорщик.
И некуда податься, кроме них".
В соседний двор вползла каруца цугом,
Залаял пес. На воздухе упругом
Качались ветки, полные листвой.
Стоял апрель. И жизнь была желанна.
Он вновь услышал — распевает Анна.
И задохнулся:
"Анна! Боже мой!"
Pestel, the Poet, and Anna