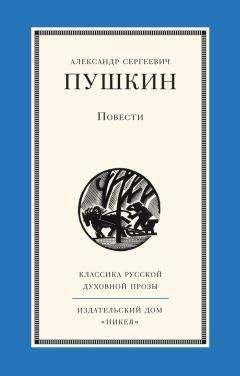Александр Пушкин - Медный всадник
В 1939 г. корпус незавершенной поэмы о Езерском, указанный (но не напечатанный) нами в статье 1930 г., был введен в трехтомное собрание стихотворных произведений Пушкина и, таким образом, впервые вошел в состав его сочинений.[420] Затем он был повторен в V томе «большого» академического издания, заняв место, отличное как от «Медного Всадника», так и от «Родословной моего героя».[421]
Исследование О. С. Соловьевой убедительно показало, что работа над новым произведением в «онегинских» строфах была начата Пушкиным в марте (предположительно между 10 и 16 марта) 1832 г.,[422] т. е. в промежуток между окончанием «Евгения Онегина», последняя вставка в текст которого (письмо Онегина к Татьяне, первоначально отсутствовавшее) датирована «5 окт<ября> 1831» (Акад., VI, 518), и выходом в свет первого полного издания романа — около 23 марта 1833 г. Возможно, что именно это обстоятельство — завершение почти девятилетней работы над любимым романом — обусловило возникновение нового замысла поэта, для выполнения которого он применил ту же строфическую форму — «онегинскую» строфу. Но чем должен был стать этот новый замысел — романом, подобным «Евгению Онегину», или повестью, такого же типа, как еще не изданный к началу работы над ним «Домик в Коломне»? С. М. Бонди считал, что, «окончив в 1831 г. „Онегина“ и скучая без привычного „многолетнего труда“, Пушкин затеял второго „Онегина“, новый „роман в стихах“»,[423] и в доказательство привел отрывок из чернового текста XV строфы «Езерского»:
Имел я право
Избрать соседа моего
В герои нового романа.
Однако в первоначальных вариантах строфы этот стих сперва начат: «В герои повести»; затем читается: «В герои [нового] краткого романа»; наконец в последнем (перебеленном) тексте: «В герои повести смиренной» (Акад., V, 411-412, 103; ПД 845, л. 32 об.).
То же определение применено к «Езерскому» и в последней, XVII, незаконченной и неотделанной строфе:
… займусь
Моею повестью любовной.
(Акад., V, 414)
Таким образом, «повесть», как определение самим поэтом жанра его нового труда, несомненно превалирует над «романом»; иное определение, как «сатирическая поэма», явилось позднее, при публикации в 1836 г. «Родословной моего героя», представляющей собой извлечение из «Езерского».
Однако из того материала, который дошел до нас в сохранившихся далеко не полностью рукописях, нет возможности восстановить, даже в самых общих чертах, сюжет задуманного произведения, в особенности установить, в чем мог и должен был состоять конфликт между героем и какими-то иными, быть может враждебными ему, персонажами или силами. Ясен для нас лишь сам герой — бедный чиновник Езерский, так же как и обстановка, в которой он живет и представлен автором читателю.
Обстановка эта имела, очевидно, существенное значение для автора и должна была давать тон всему произведению. Именно с нее начал Пушкин и именно она прежде всего привлекла внимание Анненкова и всех следующих за ним исследователей Пушкина, увидевших в этом произведении несомненное и близкое сходство с началом Первой части «Медного Всадника».
Урбанистический пейзаж — ненастный дождливый осенний вечер над Петербургом, бурная Нева, городские улицы, на которых
Дождь капал, ветер выл уныло
Клубя капот сирен ночных
И заглушая часовых. —
этот печальный, даже зловещий пейзаж открывает собою все шесть редакций «Езерского» (ПД 840, 421, 953 — в двух строфах; ПД 842, 954, 959 — в одной строфе). Впоследствии, когда Пушкин, отказавшись от продолжения поэмы о Езерском, стал писать новую «Петербургскую повесть» — «Медный Всадник», он воспользовался материалом этих вступительных строф «Езерского» и, разрушив рифмовку «онегинской» строфы, сделал из них 10-11 вступительных стихов Первой части своей новой поэмы. Но это еще вовсе не доказывает сюжетного тождества обоих произведений, т. е. того, что основной сюжетный узел того и другого определяет петербургское наводнение 1824 г. Не указывает на наводнение и упоминание о том, что Езерский влюблен в «Мещанской (вар.: в Коломне — Акад., V, 413) по соседству», хотя Пушкин и знал из печатных источников (например, из книги Берха) о том, что Коломна, и в частности Мещанская улица, пострадала от наводнения почти так же, как и Галерная гавань, только с меньшим количеством жертв. И в «Езерском», и позднее в «Медном Всаднике» указания на Коломну как на место жительства героя имеют целью лишь подчеркнуть его бедность, так же как подчеркивали место действия и самое заглавие другой повести, «Домик в Коломне», бедность и «ничтожность» вдовы и ее дочери.
Гадать о возможном сюжете «Езерского» бесцельно. Гораздо важнее для нас то, что содержится в написанных строфах.
Когда Пушкин писал одну за другой более или менее распространенные редакции начала повести о Езерском, дающие пейзажную экспозицию и вводящие героя, он долго колебался, решая вопрос о том, кем же будет этот герой: богатым молодым барином, светским денди, подобным Онегину, или бедным чиновником 14-го класса, одним из «ничтожных героев», петербургским вариантом станционного смотрителя, уже предвещающим «бедных чиновников» Гоголя и Достоевского. Эти колебания особенно ярко видны в первоначальных, двустрофных редакциях начала поэмы.
Так, в наброске, который можно считать самым ранним (ПД 840, л. 12-12 об.; из него выше приведены три стиха), поэт, написав первую строфу — урбанистическую экспозицию, стал тотчас писать и вторую, вводящую героя — очевидно, богатого светского молодого человека:
В своем безмолвном кабинете
В то время Зорин молодой
Сидел один при слабом свете
Прозрачной лампы…
(ПД 840, л. 12 об.)
но, бросив на этом 4-м стихе недописанную строфу, поэт на следующей же странице рукописи начинает — и доводит до конца строфы — вторую, диаметрально противоположную редакцию:
Порой сей поздней и печальной
(В том доме, где стоял и я)
Один при свете свечки сальной
В конурке пятого жилья[424]
Писал чиновник…
(ПД 840, л. 13)
Чередование этих двух противоположных определений социального облика героя (богатый денди — бедный чиновник) проходит и по другим позднейшим редакциям вступительных строф поэмы (см. настоящее издание, с. 95-96), где особенно выразительны две противоположные редакции второй строфы на отдельном листе (ПД 953). В первой из этих редакций, близкой к приведенной выше, читаем:
В конурку пятого жилья
Вошел один чиновник бедный…
На обороте того же листа находится другой текст, оставшийся в необработанном черновике: в нем молодой денди по фамилии Волин (?),
Взбежав по ступеням отлогим
Гранитной лестницы своей,
бранит слугу Андрея, ворча идет в кабинет, где его встречает любимый пес Цербер, и т. д. Барский особняк, «безмолвный» или «роскошный» кабинет, «темный» или «скромный», «тихий», «мирный» кабинет, «чулан», «чердак», «конурка пятого жилья» — таков широкий и необычайно выразительный диапазон, охваченный пушкинскими замыслами. Но постепенно «скромный» кабинет и даже «чердак» начинают превалировать. Герой Иван Езерский — молодой, очень бедный, мелкий чиновник, труженик, влюбленный в «младую немочку» из мещанской семьи, обитающей в Коломне. На этих данных должен строиться сюжет, нам неизвестный, восстановить который нет возможности. А богатство, «роскошный кабинет», знатность отодвигаются в прошлое, и уже в первой (известной нам) черновой рукописи, продолжающей экспозицию (ПД 842; см.: Акад., V, 394-404), поэт сообщает «род и племя» героя, т. е. историю старинного, некогда знатного и богатого рода дворян Езерских, последним представителем которого является коллежский регистратор, живущий «в конурке пятого жилья». В связи с этим возникает, полемически обсуждается и разрешается ряд важных для поэта вопросов, составляющих содержание известных нам (и, по-видимому, почти всех написанных) строф задуманной им поэмы. Вопросы эти следующие:
1) родословие Езерских, от начала рода до отца героя и до него самого;
2) упадок дворянства и его современное общественное положение;
3) изображение «ничтожного героя»;
4) право поэта на свободный выбор героя и на свободу творчества вообще.
«Родословие» Езерских начинается с их родоначальника, варяжского «воеводы» Одульфа, существование которого нужно отнести к концу IX — началу X в. Тем самым Пушкин изображает род Езерских как один из древнейших русских дворянских родов — наравне с князьями Рюриковичами и древнее рода самого поэта, начинающегося с Радши, или Ратши (Рачи), выходца из «немец» в XII в., или даже, как считал сам Пушкин, служившего «мышцей бранной Святому Невскому», т. е. около 1240 г.[425] Вообще родословие Пушкиных, как оно изложено им самим в его мемуарно-генеалогических трудах и даже в «Моей родословной», послужило ему во многом материалом для родословия Езерских, в том числе и для строф, исключенных при составлении окончательного белового текста. Однако если в родословии Пушкиных поэт подчеркивает их независимость, мятежность («Противен мне род Пушкиных мятежный», — говорит о них Борис Годунов — Акад., VII, 45), то в родословии Езерских, по крайней мере с начала XVII в., указывается на беспринципность и «приспособленчество» многих из них «во дни крамолы безначальной», когда «князь да твердый мещанин» (т. е. князь Пожарский и Козьма Минин) «спасали Русь» и даже «за отчизну стал» один «нижегородский мещанин»: