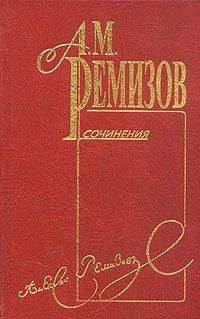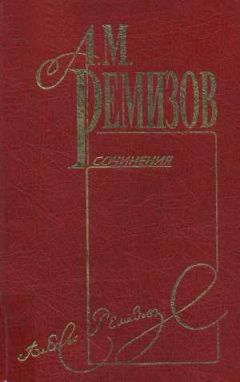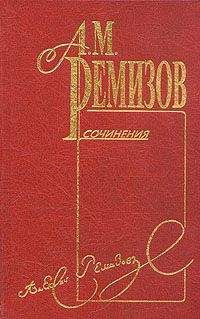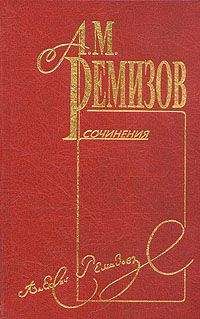Алексей Ремизов - Избранное
Мое пробуждение вышло из крови, больно. Затеяв какую-то игру (или это только так говорится: «игра», а вернее, что кто-то взял меня за руку и повел), я влез на комод и с комода упал носом на железную игрушечную печку. И с ясностью последних минут приговоренного к казни (я это встретил в «Идиоте» Достоевского) я увидел на моем белом пикейном платье, а меня еще наряжали, как девочку, по белым рубчикам кровь и из сини окон свинцовую грозовую тучу, белую башенную стену и колокольню Андрониева монастыря, красный, утыканный, как щетка, гвоздями – острием забор перед домом, усатых турок в зеленых шароварах на обоях детской – турки, высоко подкидывая ноги, плясали! И не так от боли, а что вдруг – а это и есть пробуждение: вдруг – я увидел «весь мир» – какой мир! – и «закатился», не слезы, кровь липким мазала мне рот и руки, а в ушах стоял колокольный звон. В этот первый мой «сознательный» день, когда я, свернувшись, как Наумка, лежал с переломанным носом и разорванной губой, а около кровати на верблюжьей лысинке кот, неотлучный, тщательно гладил себе лапкой мордочку, водя из-за уха к усам, – «замывал гостей», и, должно быть, я заснул, и вдруг появилась кормилица, в руках веник: зеленые стручки; и она подошла к моей кровати, положила мне в кровать этот веник – и зеленые свежие листья закрыли меня с головой; мне почуялось, будто погрузился я, как в воду, в душистый зеленый воздух, и издалека, как со дна, а ясно, как на ухо, я услышал свое неповторимое ласкательное имя и открыл глаза.
А оправившись, я захворал: скарлатина, осложнившаяся водянкой. Приговоренного к смерти – доктор сказал, что нет надежды, и чего ни попрошу, чтобы дали, а я уж и не говорил и не глядел! – меня посадили в теплую ванну с трухой. Ощутив вокруг себя зеленое тепло, я точно вспомнил что-то и открыл глаза и на желанный «зеленый» голос, а этот голос прозвучал мне из зелени, которую я увидел: «Чего ты хочешь?» – у меня потеплело на сердце: «Селедочки!» – сказал я. Дали ли мне селедку, а наверно не дали, да и не в ней была тайна, но только с этого дня наступило выздоровление.
И всякий раз, как приезжала кормилица из калужской деревни на побывку к мужу, она заходила к нам и не одна, а с Машуткой, моей молочной сестрой. Жесткими пальцами гладила она меня по носу, и я чувствовал запах деревенских лепешек, кумачу, и молоко. «Выровняется!» – говорила она. И мне было приятно, и я подставлял ей свой сломанный нос. Нянька, штопая чулки, а их всегда был ворох, и не уменьшался, глядя из-под очков, качала головой: «За озорство покарал Бог, и останешься таким до Второго пришествия, Страшного суда Господня!» Я представлял себе «Страшный суд» очень далеким, – «когда я буду как нянька», но всякий раз при упоминании о «суде», о котором я наслушался из Четий-Миней, меня охватывало горькое живое чувство: «кончится мир» – «кончился мир!». Покаранный за озорство (про меня говорили «сладу нет!»), я как бы присутствовал на Страшном суде и гладил себя пальцами по носу, как гладила меня кормилица, а нос с перебитым хрящиком торчал смехотворной пуговкой, и тут же вертелась непоседливая, быстрая Машутка с лукавыми глазами и непослушным улыбающимся ртом, такая же, и без всякой кары, с пуговкой, как я. Кормилицу поили чаем с вареньем. Я всегда сидел с ней и слушал ее рассказы о калужской деревне: упоминались сказочные для меня поле, лес, звери; и действительная жизнь – деревенская быль – перемешивалась со сказкой. Когда я научился писать, я на листе написал свои желания: чего бы я хотел, чтобы она привезла мне из деревни, – кроме лошади, коровы, овцы, козла и всяких птиц до соловья в мой реестр попал и волк, и лиса, и медведь, и заяц, и… леший с домовым и полевой и луговой и моховой. Каких-каких сказок я не наслушался в те первые мои годы! И о «семивинтовом зеркальце» – что-то вроде пятигранного камня, талисмана Ала-ад-дина: если его повертывать, увидишь весь мир, все земли, и куда ни захочешь, вмиг перенесет тебя на то место и без всяких ковров-самолетов, только скажи куда; и о волшебном «глазе»: его, обернув в салфетку, надо хранить в чистой тарелке, и когда надобно, вставь в свои «пялки», и с ним все открыто, – все мысли и желания человеческие будут тебе, как свои. Читая потом записи сказок в этнографических сборниках, я все прислушивался, я искал среди строчек, я хотел вспомнить те первые, и случалось, вдруг слышу – и тогда я писал не по тексту, а с голоса калужской песельницы и сказочницы, Евгении Борисовны Петушковой.
В пять лет я начал учиться читать и писать. Моим учителем «начатков» был известный московский педагог-законоучитель дьякон Покровской, а в обиходе «Грузинской» церкви на Воронцовом поле, Василий Егорыч Кудрявцев. Жил он недалеко, и мы с братом к нему ходили. Этот мой брат в неизбежных спорах, всегда, как последний, непререкаемый довод своей правоты, повторял неизменно, что он «умнее меня на год», а был он хворый, и все ему трудно давалось, и я всегда на уроках ему подсказывал. И однажды случилось, дьякон вышел из комнаты, мы остались одни. И я по своей близорукости задел рукавом чернильницу и залил стол и тетрадку брата. Брат заплакал. А когда дьякон вернулся, я повинился. Но он не поверил: он убежден был, что это сделал мой брат, и вот плачет. И сколько я ни уверял, дьякон не соглашался, он был уверен, что из жалости я взял на себя вину. К случаю рассказал он одну из самых любимых сказок русского народа: «Чужая вина». «Но, по справедливости, – сказал дьякон, – так не следует делать: надо иметь волю и мужество отвечать за свои поступки!» Потом уж, читая в первый раз Толстого «Войну и мир», я вспомнил «Чужую вину» в судьбе Платона Каратаева, эту сказку из сказок, вышедшую из неумиренного сердца перед самым явлением в мире человеческого «греха»; и в легенде, приводимой Достоевским в «Братьях Карамазовых», о «Хождении Богородицы по мукам», в слове Богородицы – «хочу мучиться с грешными!» мне послышался тот же мотив «Чужой вины».
И еще о ту пору я узнал про Барму: эту сказку рассказывал «глухонемой» печник. На Масленицу приходил он к нам вечером ряженый: тряс головой-барабаном, украшенным лентами, он мычал и что-то делал руками, подманивал. Стакан водки был магическим средством выманить у него слова. И на глазах совершалось чудо: «глухонемой», хлопнув стаканчик, глухо, точно издалека, словами, выходящими из «чрева», начинал сказку о похождениях вора. Потом я узнал этого Барму и в воре Мамыке, и в арабском Камакиме, и в Ваньке Каине.
И еще о «принцессе-павлиньи перья», эту сказку с феями-джиниями рассказывала нянька. Я представлял себе павлинью принцессу моей «первой кормилицей» с ее таинственным «желтым билетом», безымянную, ни с кем не сравнимую, кормившую меня три дня и похищенную страшным мар ид ом.
На второй год моего ученья у дьякона неожиданно на Страстной появилась Евгения Борисовна Петушкова: она приехала в Москву, чтобы везти мужа в деревню: попал в машину, и ему отняли ногу. «На войне был – и ничего, – говорила она, – Бог спас, а вот – калека!» – «Такая судьба, девушка!» – сказала нянька. И я помню, я видел, как на это непререкаемое, на этот «суд непосужаемый», и все заключающее «судьба», встрепенувшись, она посмотрела: испуг это? нет! – и какие огни посыпались из ее глаз – и пусть разразит ее, не согласна! И опустившийся рот ее задрожал. Такой я видел ее в последний раз. И этот образ сжился со мной. Так ярко я чувствую и живо, как свое: отпор, огонь на огонь встречной, неумолимой, беспощадной судьбы, это сердце и волю. Вот кто меня выкормил и научил ходить по земле, – какая «взвихренная Русь»!
Первые слезы
Не знаю, как сказать и отчего, жизнь моя была чудесная. Оттого ли, что я родился близоруким, и от рождения глаза мои различали мелочи, сливающиеся для нормального глаза, и я как бы природой моей предназначался к «мелкоскопической» каллиграфии, или я сделался близоруким, увидев с первого взгляда то, что нормальному глазу только может сниться во сне.
Величественный и в величии своем грозный окружал меня мир. И все было так огромно, и люди такие большие – великаны, и я чувствовал себя – потому что все великаны – загнанным карликом: подводя к самым глазам крепко стиснутые руки, я убеждался, как они малы и слабы, в сравнении с кажущимися мне огромными ручищами-лапищами у других. Огромная величественная луна восходила над Андроньевым монастырем, и, если в детской никого не было, я тихонько подходил к окну и, не отрываясь, глядел на нее и на белую рядом колокольню монастыря с ее мучительным для меня колоколом, потом всколыхнувшим во мне память о Андрее Рублеве, Аввакуме и какую-то общую память с Достоевским – о загадочной материнской тайне – о матери, просящей прощение у сына. Наглядевшись, я бродил по комнате в лунном свете, крепко стискивая перед собой руки, точно прося кого-то – но кого и о чем? Из самой глубины моего сердца я чувствовал тяготеющее проклятие на себе – этого имени я еще не знал, но я помню свое чувство, да и все потом оправдалось, именно проклятие, и, стискивая перед собой руки, может быть, невольно просил эту огромную единственную луну, всегда пораженный небезразличным чутким ее молчанием, просил ее снять с меня мою грозную долю какой-то первородной виновной совести, назначенного на мою долю и неизбывного «греха», который я непременно совершу непредумышленно, безотчетно, именно как «первородное проклятие» – с ним пришел я в мир, и без него немыслима моя жизнь. Мои стиснутые руки, – но это были не угрожающие сжатые кулаки детей, «убивших Бога», из сокровеннейших видений Достоевского, этих обольщенных, обманутых и изнасилованных детей, мои стиснутые руки – не угроза и не отчаяние, а только мольба с сознанием всей безнадежности попавшего в капкан зверька. Я был похож на того маленького зверька с белой, от белизны блестящей, как снежные блестки под рождественской елкой, жесткой шкуркой, и этот зверок – я, очутившийся в огромном ярком мире среди великанов-людей, и, чуя живым бьющимся сердцем свою обреченность, не знал, как защититься, или, по крайней мере, как отдалить обступающую грозящую беду. Если бы кто-нибудь, хоть однажды, заметил, как я хожу по комнате, стискивая себе руки; если бы кто-нибудь однажды заглянул тогда в мои, все преувеличивающие, глаза… Но какие силы, да и могло ли что-нибудь поправить в моей судьбе? Или теплая ласка, тихое и внимательное слово из того источника человеческого сердца, тогда мне чужого, непонятного и неслыханного, и который называется любовью человека к человеку, вывели бы меня из моего исступления или бы смягчили до отчаяния давящее меня чувство проклятия неизбывной грозной доли, отдаляя наступающее предрешенное «преступление» – казнь и кару, которую суждено мне нести до моего последнего дня на червящейся человеческими бестолочными жизнями пустыми, но и горчайшими, на незащищенной под грозой комет земле.