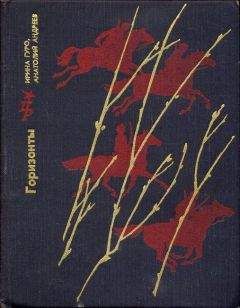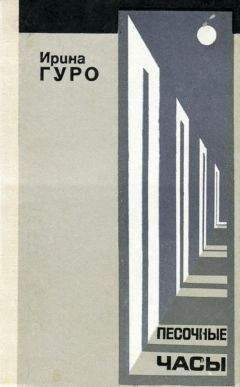Елена Гуро - Небесные верблюжата. Избранное
В ответ ему золотые струйки побежали в нем и кругом по стенам. Все осветилось, но он притворился, что — поглощен чаем, чтобы они не заметили этого.
1910–1912
О выплюнутой крови
У него был добрый плюшевый лобик. Играл, умывался неловкой лапой. Любил детей и лизал им доверчиво пальцы.
Кухарку разозлила барыня-невестка. И она выплеснула ему на голову кипяток — и забыла об этом через минуту. Это было делом минуты. У кухарки отлегло. Кухарка утихла и стала веселой — приласкала и приласкалась к жизни.
А жизнь игравшего добродушно с людьми превратилась бесповоротно в ужас ободранной красной головы с вытекшими глазами, и те, к кому раньше ласкался, отворачивались с отвращением. Он был агонизирующим мячиком для нас.
Даст Бог, это окончилось скоро.
1909
Этюды к «Поэту»
Проезжали. В одном окне светился край абажура над лампой, и в этом что-то притягивало. За массой горящих окон происходила настоящая жизнь.
Но это все было не важно. Дело в том, что за этой жизнью движений была другая настоящая жизнь, которая служит всему разгадкой. Он видел ее отрывки. Вот что тут появилось. Черный рояль, полированный, как черный мрамор. Перед ним напудренная фигура и глаза-звезды лучатся! Лучатся! И сразу другие и черный рояль, и в напудренной голове отгадка огней города.
Концертный зал, концертный трепет… бледность, «агнец на заклание». Темно-зеленые лавры. Звезды, звезды. Нет, и опять все не то. Щелка, в которую дети ночью, в третьем часу ночи, подглядывают в яркую комнату, где настоящая таинственная жизнь, ужин в доме. И взрывы смеха, что-то, как горячая пропасть ночью, как у золотой щели, — еще не выпитое, не изжитое в первый раз.
Что-то желтое, оранжевое слепит искрами глаза, возвращаются в постель, с чувством важного, они видели настоящее.
Настоящая жизнь просвечивает мгновеньями, в электрических шарах, в ничего не значущем.
Зачем большинство живет ненастоящей жизнью?
В музыкальном магазине грифы скрипок, виолончелей вытянулись по стене, это из той жизни, в них есть эта тайна.
Женятся, влюбляются, живут, умирают, но это все не важно, за этим всем вечный концерт, вечная гордая мысль, и это никогда не замолкает, и только для этого рождаются люди.
Что-то похожее на концертную залу. На звезды, на венцы, на лучистые глаза Моцарта.
В этом была тайна города.
Он часто не понимал музыку, но он наслаждался, понимая, что это — то, только оно спряталось от него. Ждал, замирая, горя, когда дверь откроется, и на эстраду выйдет из тех: Избранный.
Звенят искры хрусталя. Горят складки бархата.
* * *Шел между низеньких домов тихой, тихой улицы. Лошадь жует сено, мужик бросает снег на телегу, но все это не так, не само по себе, а все для музыки и поэзии. На душе было чудесно. У детей была коробка от бумажных марьонеток, на ней были нарисованы человечки в пудре, они приглашали поднять занавес! А девочка в локонах била в барабан. Пудра напоминала Моцарта… И в этой картине была какая-то связь с ночным звездным небом и с музыкой и поэзией.
Шел мимо посудной лавки, блики сияли и точно танцевали… если нарисовать, то это будет симфония настоящей жизни.
И он приходил домой в восторге, и старался заниматься в неудобной позе на жестком, чтобы дойти до изнеможения.
И его радовало, что имеете с ним на земле в том же городе живут гении. Избранные. Видят ту же пасмурную погоду. Он мечтал о жизни избранных. Как они встают — когда пишут, какими вставочками. Он мечтал. Он утешал себя. Пасмурные бесцветно-белесоватые дни переносил не один он, переносили их и «великие».
И у него становилось слабое примиренное чувство, как у выздоравливающих. Дни идут за днями длинные, и каждую минуту может начаться новое послезавтра. (Уж он уступает обыденщине и не предполагает завтра, хоть и завтра оно возможно), например, он может начать вещь, ему может прийти на ум прекрасное тонкое изображение, и он воплотит его, нет, будет слабо, исподволь, но все же приближаться к нему, и темнота бесцветного дня не пугала уже. Он терпеливо кропал и, съежившись в углу дивана, ждал.
* * *Он мечтал. Вот идет избранный, бледный благородной бледностью создающего. Он смотрит на игрушки ювелирных магазинов — на остановки в окнах. Он отдыхает, и снег липнет к его меховому воротнику.
Ингеборга и Фритьоф
Мне мнится, они наконец вошли в храм Бальдера, Бога добра и света, вошли свободные, и легко дышащие, и ясные. Стоят, одетые оба золотым дождем ее волос, золотым, как свет, пронизавший дерево храма.
В этот день лицо Бальдера сияло. По столбам, карнизам звенели, звучали зеленые, красные и голубые краски. Яркие узоры отвечали поющему солнцу.
И весеннее кристальное небо голубело в сосновую арку… И горы серели, и ели Скандинавии.
<Мне мечтается, как они пришли сюда по весенним проталинам: снег полз по склонам холмов. С холма на холм перелетал их путь.
И они стоят золотые, голубеет арка небом, страсть <…> манит далью. Сбывшейся надеждой, приближающимся блаженством.
Так мне представилось сияющее видение на рассвете темного ноябрьского дня. Так мне все мечтается теперь, когда я смотрю на звучащие между белыми пластами снега, темные, свежие, сырые краски оттепели. >
Гавань
Гавань — это желанный приют для человека, утомленного житейской битвой. Как волшебной призмой, глаза, не пресыщаясь, могут либо виться под открытым небом прихотливой архитектурой облаков, мерцаньем маяка, изменчивыми отливами моря. Стройные очертания кораблей под тонкими темными снастями, грациозно и тихо колеблясь на волнах прибоя, наполняют душу чувством меры и красоты. Для того, кто уже отрекся от всякого любопытства и честолюбия, есть какая-то таинственная и благородная прелесть в том, чтобы лежа на балконе или опершись о перила набережной, наблюдать за тревожной суетнёю тех, кто приезжает или готовится в путь, тех, кто все еще имеет силу желать, кто все еще хочет странствовать и обогащаться.
Этюды
I
Этюд
Сила теплая, темная, вонючего пара. В этот пар люди шлепали по снегу калошами.
* * *Тягуче тянется полосами длинное движение улицы. Грязный желто-серый снег на телегах. Лошади, оглобли, головы в наушниках (грязь над бурыми <…> или бурыми рогожами на телегах).
Этюд лесаИз земли выгнулись зеленые толстые змеи, из них черные молнии напряглись зигзагами (рвутся) к небу.
Из каждого ствола пригнулись <…> выгнулись меньшие змеи в одну сторону, словно в них упирался ветер.
Этюд улицыБелые мраморные статуэтки. — Розовый выпуклый пошлый корсет в окне.
* * *Украшение: бык из папье-маше, раскрашенный тесно кирпичными пятнами, украшенный старыми пыльными розами.
* * *На дворе скрестились, спутались хаосом дровни с большими пузатыми чанами рыбы. Рыбный воздух.
* * *Нарисованы желтые быки. Закоптелые, пропыленные.
ЭтюдыМокрые <…> лошади на желтом снегу. За мешками между клочков мокрые рамки <…>. Заседел иней оттепели. Вьшеска грязная чисто говорит весною.
Весенние этюдыТолько ива запылает красными <…> побегами над речкой <…> и запахнет ивовой корой.
Серой дымкой лес вздохнет, оттаяв.
II
Зима
Сосульки повисли па крышах, как ледяные кудрявые гривы.
* * *Из водосточных труб вывалились ледяные языки почти до земли.
* * *По утрам воздух белый, туманный от сжимающегося холода.
* * *Давит пальцы железными клещами холод.
Суровая зимаДремлют хрустальные рощи. Под сном своим белым, снежным ветви ив никнули к земле. Под покровом вершины с воздухом белым слились.
Решетки кружевные. Инеем были осыпаны, инеем крупным, как бахромой. Ржз, ржз, ржз. Громыхают, кряхтят мимо огромные дровни друг за другом. Разноцветные дуги бархатятся на белой дали.
РаньшеГромадные обледенелые дровни.
С неподвижно стоящими людьми с побелевшими воротниками и красными носами — в обледеневших валенках.
Выделились на белой дали и, громыхая, исчезли.
Мимо, все мимо туманом одетой церкви. Белые, жилища людей.
За морозным ясным утром, розовея на воздухе, небо светит перламутром. — И на полосах светлеющих купола темнеют серые. —
Купола на них сереют, словно вырезанные из картона.
<III>
Осень
Сухой металлический шум деревьев.