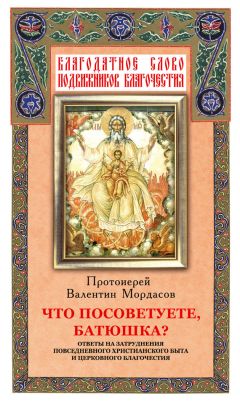Сборник - Поэзия Серебряного века (Сборник)
Алексей Кручёных
(1886–1968)Алексей Елисеевич Кручёных – поэт и художник, умудрившийся за короткое время взорвать все привычные и устоявшиеся поэтические каноны. Родом из Херсонской губернии, он в начале 1910-х приехал в Петербург. Войдя в группу “Гилея”, Крученых стал активным деятелем и теоретиком русского футуристического движения. С его именем связано зарождение и развитие “зауми” – одного из самых радикальных направлений футуризма. Никто из футуристов не встретил такого непонимания и не подвергался такой уничижительной критике, как Кручёных.
После революции теории словотворчества и зауми, развиваемые Кручёных, естественно, не могли прижиться в советской литературе, хотя именно футуристы активно поддержали эту самую власть. Сам же основатель зауми уцелел лишь чудом, но до конца своих дней был полностью выведен из литературного процесса, став на старости лет собирателем и торговцем редкими книгами и автографами.
3 стихотворениянаписанные насобственном языкеот др. отличается:слова его не имеютопределенного значения№ 1
Дыр бул щыл
убешщур
скум
вы со бу
р л эз
№ 2
фрот фрон ыт
не спорю влюблен
черный язык
то было у диких
племен
№ 3
Та са мае
ха ра бау
Саем сию дуб
радуб мола
аль[166]
привыкнув ко всем безобразьям
искал я их днем с фонарем
но увы! все износились проказы
не забыться мне ни на чем!
и взор устремивши к беcплотным
я тихо но твердо сказал:
мир вовсе не рвотное —
и мордой уткнулся в Обводный канал…
Я жрец я разленился
к чему все строить из земли
в покои неги удалился
лежу и греюсь близ свиньи
на теплой глине
испарь свинины
и запах псины
лежу добрею на аршины.
Какой то вестник постучался
разбил стекло —
с постели приподнялся
вдали крыло
и кажется мелькнуло
сурово-милое плечо
то перст или мигуло
иль уст свеча.
Мозгам вареным страшно
куда сокрылся он
как будто в рукопашной
с другим упал за небосклон
иль прозвенело серебро
в лучах невидимых
что вечно не старо
над низкой хижиной.
Тут вспомнилась чиная
что грозноуста
смотрит обещая
дни мясопуста
и томной грустью жажды
томиться сердце стало
вздохну не раз не дважды
гляжу в светало
гроза ли грянет к ночи
весенний студень глины
и вянет кочень
среди долины
он видел глаза какие
в жерлах ресничных плит
ну что ж! сто солнц спеки я
но уж, змея шипит
я строгий запах крылий
запомнил но с свининой
но тихо тихо вылей
чугун души кувшинный
Уехала!
Как молоток
влетело в голову
отточенное слово,
вколочено напропалую!
– Задержите! Караул!
Не попрощался.
В Коджоры![167] —
Бегу по шпалам,
кричу и падаю под ветер.
Все поезда
проносятся
над онемелым переносьем…
Ты отделилась от вокзала,
покорно сникли семафоры.
Гудел
трепыхался поезд,
горлом
прорезывая стальной воздух.
В ознобе
не попадали
зуб-на-зуб шпалы.
Петлей угарной ветер замахал.
А я глядел нарядно-катафальный
в галстуке…
И вдруг – вдогонку:
– Стой! Схватите!
Она совсем уехала? —
Над лесом рвутся силуэты,
а я – в колодезь,
к швабрам,
барахтаться в холодной одиночке,
где сырость с ночью спят в обнимку.
Ты на Кавказец профуфырила в экспрессе
и скоро выйдешь замуж,
меня ж – к мокрицам,
где костоломный осьмизуб
настежь
прощелкнет…
Умчался…
Уездный гвоздь – в селезенку!
И все-ж – живу!
Уж третью пятидневку
в слякоть и в стужу
– ничего, привыкаю —
хожу на службу
и даже ежедневно
что-то дряблое
обедаю
с кислой капустой.
Имени ее не произношу.
Живу молчальником.
Стиснув виски
стараюсь выполнить
предотъездное обещание.
Да… Так спокойнее —
анемичником…
Занафталиненный медикамен —
тами доктор
двенадцатью щипцами
сделал мне аборт памяти…
Меня зажало в люк.
Я кувыркаюсь без памяти,
Стучу о камень,
Знаю – не вынырну!
На мокрые доски
молчалкою —
плюх!..
У меня совершенно по иному дрожат скулы
– сабель атласных клац —
когда я выкрикиваю:
хыр дыр чулЫ
заглушаю движенье стульев
и чавкающий
раз двадцать
под поцелуем матрац…
В полночь я заметил на своей простыне черного и
твердого,
величиной с клопа
в красной бахроме ножек.
Прижег его спичкой. А он, потолстел без ожога,
как повернутая дном железная бутылка…
Я подумал: мало было огня?…
Но ведь для такого – спичка как бревно!..
Пришедшие мои друзья набросали на него щепок,
бумаги с керосином – и подожгли…
Когда дым рассеялся – мы заметили зверька,
сидящего в углу кровати
в позе Будды (ростом с 1/4 аршина)
И, как би-ба-бо[168] ехидно улыбающегося.
Поняв, что это ОСОБОЕ существо,
я отправился за спиртом в аптеку
а тем временем
приятели ввертели ему окурками в живот
пепельницу.
Топтали каблуками, били по щекам, поджаривали уши,
а кто то накаливал спинку кровати на свечке.
Вернувшись, я спросил:
– Ну как?
В темноте тихо ответили:
– Все уже кончено!
– Сожгли?
– Нет, сам застрелился…
ПОТОМУ ЧТО, сказал он,
В ОГНЕ Я УЗНАЛ НЕЧТО ЛУЧШЕЕ!
Сошлися черное шоссе с асфальтом неба
И дождь забором встал
Нет выxода из досок водяного плена
– С-с-с-с-ш-ш-ш-ш —
Сквозят дома
Шипит и ширится стальной оскал!
И молчаливо сxодит всадник с неба
– Надавит xолод металлической души —
И слякотной любовью запеленат
С ним мир пускает
Смертельный спазмы
Пузыри —
(Бульк:) пульс… бульз… бульзыри…
Бенедикт Лившиц
Бенедикт Константинович (Наумович) Лившиц получил блестящее образование, прекрасно знал классическую литературу, а также, отлично владея несколькими языками, – французскую поэзию. Писать стихи он начал еще в гимназии. Его первая книга “Флейта Марсия” (Киев, 1911) получила похвальный отзыв Брюсова, отметившего “культуру стиха”. Надо сказать, что поэтика Лившица была очень близка традициям символизма, и его сближение с кубофутуристами вызвало много вопросов. Лившиц стал едва ли не самым активным участником группы “Гилея” – не только как автор, но и теоретик движения. Однако он не подписывал манифесты футуристов, да и, в отличие от них, прекрасно владел “правильным” языком. На эту творческую раздвоенность не раз указывали критики. В итоге Лившиц не принял крайностей футуризма. Ему претило словотворчество Хлебникова и заумь Крученых, более важной он считал эстетическую основу стиха, его мелодичность, образность. Разрыв с футуристами был предопределен, а уход поэта на фронт в начале Первой мировой войны лишь констатировал этот факт.
Позже он выпустил несколько поэтических сборников, а также книгу мемуаров “Полутораглазый стрелец”, содержащую множество интересных фактов из истории русского футуризма. В 1937 году Лившиц был арестован, а годом позже расстрелян.
Пьянители раяПьянитель рая, к легким светам
Я восхожу на мягкий луг
Уже тоскующим поэтом
Последней из моих подруг.
И, дольней песнию томимы,
Облокотясь на облака,
Фарфоровые херувимы
Во сне качаются слегка, —
И, в сновиденьях замирая,
Вдыхают заозерный мед
И голубые розы рая
И голубь розовых высот.
А я пою и кровь, и кремни,
И вечно-женственный гашиш,
Пока не вступит мой преемник,
Раздвинув золотой камыш.
Давиду Бурлюку
Мечом снопа опять разбуженный паук
Закапал по стеклу корявыми ногами.
Мизерикордией![169] – не надо лишних мук,
Но ты в дверях жуешь лениво сапогами,
Глядишь на лысину, плывущую из роз,
Окоченелых роз молочного прилавка,
И в животе твоем под ветерком стрекоз
Легко колышется подстриженная травка.
Чугунной молнией извив овечьих бронь!
Я шею вытянул вослед бегущим овцам,
И снова спит паук, и снова тишь и сонь
Над мертвым – на скамье – в хвостах —
виноторговцем.
Расплещутся долгие стены,
И вдруг, отрезвившись от роз,
Крылатый и благословенный
Пленитель жемчужных стрекоз,
Я стану тяжелым и темным,
Каким ты не знала меня,
И не догадаюсь, о чем нам
Увядшее золото дня
Так тускло и медленно блещет,
И не догадаюсь, зачем
В густеющем воздухе резче
Над садом очертится шлем, —
И только в изгнанье поэта
Возникнет и ложе твое,
И в розы печального лета
Архангел струящий копье.
И снова – четырехконечный —
Невеста неневестных звезд,
О Русь, приемлешь ты заплечный
Степных широт суровый крест.
И снова в поле, польском поле,
Возведена на пламена,
Сокровищница тайной воли
И четырех ветров страна.
Ты видишь: на зверином стержне
Вращающийся небосвод?
Ты слышишь, слышишь: безудержней
Плескания балтийских вод?
Не на Царьград и не на Вавель[170] —
На Торн[171] ведет твой торный путь:
В болотный мох, в лесную завяль
Тебе ли плеч не окунуть?
И не тебя ль, на диком взъезде,
Прошедшую свинцеворот
Бичей, и вихрей, и созвездий,
Десница всадника влечет?
В закат, где плещет плащаница
Тебе завещанных зыбей,
Где легче слова водрузится
Суровый знак степных скорбей?
О, как немного надо влаги,
Одной лишь речи дождевой,
Чтоб мечущийся в саркофаге
Опять услышать голос твой!
Мы легковерно ищем мира,
Низвергнув царствие твое,
И в связке ликторской[172] секира
Утоплена по острие.
Но плеск – и ты в гранитном склепе
Шевелишься, и снова нов
Твой плен, и сестры всё свирепей
Вопят с Персеевых щитов:[173]
Ничто, ничто внутрирубежный,
Двухвековой – ничто – союз!
И полон сад левобережный
Мятежным временем медуз.
И полукруг, и крест латинский,
И своенравца римский сон
Ты перерос по-исполински —
Удвоенной дугой колонн.
И вздыбленной клавиатуре
Удары звезд и лёт копыт
Равны, когда вдыхатель бури
Жемчужным воздухом не сыт.
В потоке легком небоската
Ты луч отвергнешь ли один,
Коль зодчий тратил, точно злато,
Гиперборейский травертин?[174]
Не тленным камнем – светопада
Опоясался ты кольцом,
И куполу дана отрада
Стать Колумбовым яйцом.[175]
Копыта в воздухе, и свод
Пунцовокаменной гортани,
И роковой огневорот
Закатом опоенных зданий:
Должны из царства багреца
Извергнутые чужестранцы
Бежать от пламени дворца,
Как черные протуберанцы.
Не цвет медузиной груди,
Но сердце, хлещущее кровью,
Лежит на круглой площади:
Да не осудят участь вдовью!
И кто же, русский, не поймет,
Какое сердце в сером теле,
Когда столпа державный взлет —
Лишь ось жестокой карусели?
Лишь ропоты твои, Нева,
Как отплеск, радующий слабо,
Лелеет гордая вдова
Под куполом бескровным Штаба:
Заутра бросится гонец
В сирень морскую, в серый вырез, —
И расцветает наконец
Златой адмиралтейский ирис.
Когда тебя петлей смертельной
Рубеж последний захлестнет,
И речью нечленораздельной
Своих первоначальных вод
Ты воззовешь, в бреду жестоком
Лишь мудрость детства восприяв,
Что невозможно быть востоком,
Навеки запад потеряв, —
Тебе ответят рев звериный,
Шуршанье трав и камней рык,
И обретут уста единый
России подлинный язык,
Что дивным встретится испугом,
Как весть о новобытии,
И там, где над проклятым Бугом
Свистят осинники твои.
Владимир Маяковский