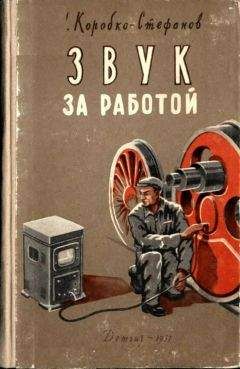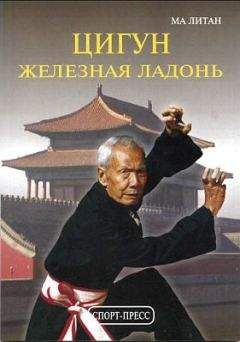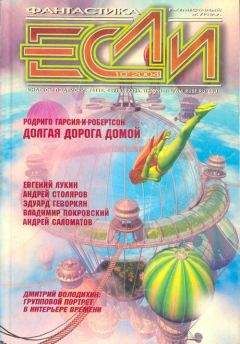Алина Литинская - Акварели
После прогулки на корабле
Прогулочный корабль — как женщина для лёгких отношений,
Прогулочный корабль — высокий частокол псалмов,
Запрятанное в трюм глухое песнопение
И шквальные призывы берегов.
Прогулочный корабль — матросы блещут медью,
Синкопы рвут движенье мерных строчек,
Прогулочный корабль — высокое возмездие
За тоненькую линию отсрочек.
Налево за бортом — неистовство огней,
Направо — тьма, что сбрызнута извёсткой,
Корабль что-то знает о судьбе своей
И что-то в ней от участи актёрской.
И с нею заодно мальчишка — лицедей,
Что прибыл нынче утром из Зимбабве:
Бродяче-цирковая поросль затей
От древнего служения забавам.
Прогулочный корабль — смиренье и каскад,
На три часа откупленное детство,
Прогулочный корабль, повёрнутый назад,
Он всякий раз уходит, словно в бегство.
«Досадую на воздух и на пыль…»
Л. Ленчику
Досадую на воздух и на пыль,
В которые гляжу, проскальзывая мимо,
Как множественный жест невидящего мима
У небыли одалживает быль.
Досадую, что и не оглянусь
На пустоту асфальтовой равнины,
И где-то на краю застигнет грусть
От ею же придуманной картины.
Я вслушиваюсь в паузы меж слов —
Они слышнее голосов раската –
Всплывает на поверхность давних снов
Движение, застывшее когда-то.
Сумерки
А сумерки ложатся в ложе дня,
Как дань для утешения ухода,
И с песней колыбельной погодя,
Себя даруют вечеру в угоду.
Тихонечко подрагивает быль —
Качели детские в давно уснувшем сквере,
И сон остановить их позабыл,
Чтоб не вселять опасное безверье.
Уходит день. Качаются качели.
Качаются, как маятник средь ночи,
А где-то далеко, на самом деле,
День держится за небо, что есть мочи.
Лицом к Востоку
Я стала на красную глину
Под полуобморочное солнце,
А мимо плывут бедуины
Иероглифами на горизонте.
Связкой невольников — гроздь винограда,
Лица — маслины под серым прикрытьем,
В воздухе сонно стрекочут цикады,
Будто и нет здесь иных событий.
Полдень, дорога, гортанный намаз,
Ветер плетет из песка свои косы,
Я здесь, мне кажется, в тысячный раз,
Но не смогу объяснить, если спросят:
— Что это?
Камень. А из него,
Прямо из камня, а не из расщелины,
Крепко упершись упрямой ногой,
Выпростал с силой себя крутошеий,
Бог весть откуда явившись, цветок.
Слов я других не ищу и не знаю,
Лучше его так никто и не смог
Мне рассказать, что такое Израиль.
Бог умудрил, да не слишком, наверное…
Руку тяну свою, руку безмерную,
Тянется, тянется, сослепу, ощупью
То ли ветрами, а может быть осыпью
То ли сквозь щели, щеколды и заперти
Не дотянуться до ближней мне паперти
Чтоб постоять там без имени-звания
И попросить бы за тех, на окраине,
Что на окраине пальцев несмеженных
Оторопь-оторопь, поле бесснежное,
Поле сухое, от ветра оглохшее,
Свей из руки мне шнурок, да потоньше бы,
Да подлинней, чтобы морем и сушами
Мог протянуться, а время бы слушало,
Хоть на мгновенье, землею и недрами…
Бог умудрил, да не слишком, наверное.
«На ветках снег лежит…»
На ветках снег лежит немым благословеньем.
Цветы из снега — знак преподношенья
Своей же белизне и тишине.
Вишневый цвет, что буйствует весной
На небе ночи кажется на миг
Рисунком изморози неподвижным.
Деревья вспомнили себя во сне.
«Вьюга. Зима…»
Вьюга. Зима. И над вьюжною пропастью
Женщина вяжет. Не сети для промысла
И не одежду, что греет ей тело –
Женщина вяжет без умысла-дела.
Вяжется что-то вязания для,
Зимнею толщей покрыта земля,
Веки приникли к стеклу мотыльками,
Взгляд неподвижен, а пальцы мелькали,
Не через окна и не чрез порог
Спицы-синицы ведут диалог,
Что говорят меж собою — не знаю,
Им и безмолвного жеста хватает
Жеста извечного: каждый в черед,
И самотканой рекою течет
Из-под руки, из-под пальцев снующих
Утро и дом, дверца печки и вьюшка,
Дерево рядом за спинкою стула,
Птица крылом, встрепенувшись, взмахнула,
Птица на дереве — в воздухе посвисты…
Женщина вяжет и вяжет над пропастью,
Все для того, чтоб на сотой петельке
Выросло дерево в комнате-клетке,
Птица над крышей свой круг описала,
Птица на дереве — круга начало.
Весна
Рождению внучки Настасьи
…И ворвалась, ликуя,
Как после ожидания за дверью,
Как детская предпраздничная вера
Из тёплых снов в позолоченной сбруе,
И заглянула в окна, как дитя
На празднике, где празднует себя же,
Снопы лучей, обламывая, вяжет
Их в зелень говорливую кладя.
Сосед-трубач — он долго ждал намедни,
Когда начнётся этот карнавал,
И пригоршнями звуки раздавал,
Заимствуя из пролитой им меди.
И в путанице неба и земли,
В беспамятстве весенней круговерти,
Как пятаки, просыпавшись из тверди,
Оранжевые солнца расцвели,
И нет зимы, и больше зим не будет,
Планета празднует все вёсны напролёт,
И птичьи стрелы сонный воздух будят, И тёплый дух из недр земли встаёт.
«Я хожу по ухабам…»
Я хожу по ухабам — по вдохам Земли.
По безмолвию жестов — тихим пригоркам,
Я повязана с ними — дыханием ли,
Или вкусом травы на губах чуть прогорклым,
Или общей дорогой — дорогою в Быль.
Где здесь Быль, а где вымысел — не разберусь я.
Окунусь в пожелтевший от ветра ковыль,
А почудится мне родниковое устье.
Каждым шагом — невидимым шагом в ночи
Подкрепляю лишь всеодиночное пение.
У меня под руками остались ключи
И один колосок отпечатался в зрении.
«Вы скажете: такого не бывает…»
Вы скажете: такого не бывает…
Пластинка старая — и день, и год, и век,
От самых ранних дней и до смеженья век,
От кончика ногтей до отраженья в стеклах,
До лиц на фотографиях поблеклых,
До запахов и звуков слышных еле –
Вращаются на диске-карусели.
Вы скажете: ну что же здесь такого?
Пластинка старая и все давно не ново.
Я не о том. Был день. Была тревога,
Не то какие-то ненужные дела,
Скорей всего все вместе понемногу,
А может быть, чего-то я ждала.
Пластинка старая — привычное движенье,
Молчанье, вдох, и жест благословенья,
Ступенька за ступенькою — и вдруг
(Вы скажете: такого не бывает) –
И вдруг — другое, музыка другая.
Ее здесь не было. Быть может, это друг
Ее досочинил вчера иль нынче ночью.
И отослал ему лишь одному известной почтой.
Его перо и дух так узнаваем,
И новый текст с листа прочитан краем
Прищуренного глаза. Нотный лист
На вычурном пюпитре. И повис
Аккорд последний многоточьем –
Прием испытанный и временем отточен,
Вопросы вечные “зачем?” и “почему?”,
Ответы, видно, не пришли к нему.
Ответов нет, и слава, слава Богу.
Пластинка старая — поэт и недотрога,
В ней что-то расступилось, чтобы снова…
Вы скажете, не может быть такого.
Ну, нет, так нет. И все же нынче рано
Совсем иной была “Крейслериана”.
Пластинка старая без призвуков и шума
Клянется этикеткой: Роберт Шуман.
Evanston
Я живу в Амстердаме
Стокгольме и Осло,
За окном не спеша
ходят зимы и весны.
Их походка на слух мой
едва различима
С веток падает пух
безо всякой причины.
У меня за окном
шпили-башни да небо,
Мы друзей позовем
в карандашную небыль.
Кто со мной не ходил
не в Стокгольм и не в Осло
Приходите — пойдем,
Все так просто, так просто.
За моим за окном
Мичиган вверх спиною,
Утром утки кричат
говорят не со мною.
Они думают, что
их язык не для взрослых.
Приходите скорей,
погуляем по Осло,
где деревья зимой
обнажились до голи.
Приходите скорей,
погуляем в Стокгольме.
«Со мною музыка…»