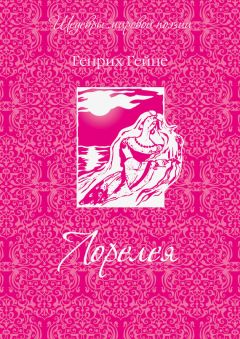Генрих Гейне - Луккские воды
242
блате, на которые я так часто смотрел после обеда, когда они приветливо блестели на солнце -- не раз мне хотелось поцеловать их. Ах, теперь я в Италии, где растут лимоны и апельсины, но когда я вижу, как растут лимоны и апельсины, я вспоминаю Каменную улицу в Гамбурге, где они разложены так привольно на переполненных лотках, и можно там спокойно наслаждаться ими, и не надо карабкаться в гору, с опасностью для жизни, и терпеть такую палящую жару. Как бог свят, господин маркиз, если бы я это не сделал ради чести и ради образованности, я бы не последовал сюда за вами. Но, нужно признаться, быть с вами, -- значит иметь честь и получать образование.
-- Гиацинт, -- сказал тут Гумпелино, слегка смягченный этой лестью,-Гиацинт, иди теперь к...
-- Я уж знаю...
-- Ты не знаешь, говорю тебе, Гиацинт...
-- Я говорю вам, господин Гумпель, я знаю. Ваше превосходительство посылаете меня к леди Максфилд... Мне совсем ничего не нужно говорить. Я знаю ваши мысли, даже те, которых вы еще и не думали и которые, пожалуй, вам и в голову не придут во всю вашу жизнь. Такого слугу, как я, вы нелегко найдете, и я делаю это ради чести и ради образованности, и действительно, быть с вами -- значит иметь честь и получать образование.
При этих словах он высморкался в весьма белый носовой платок.
-- Гиацинт, -- сказал маркиз, -- ты отправишься к леди Максфилд, к моей Юлии, и отнесешь ей этот тюльпан -- береги его, он стоит пять паоли, -- и скажешь ей...
-- Я уж знаю...
-- Ты ничего не знаешь! Скажи ей: тюльпан среди прочих цветов...
-- Я уж знаю, вы хотите сказать ей кое-что с помощью цветка. Я ведь тоже не раз сочинял девизы, когда собирал деньги за лотерейные билеты.
-- Говорю тебе, Гиацинт, не нужно мне твоих девизов. Отнеси этот цветок к леди Максфилд и скажи ей:
Тюльпан среди прочих цветов
Точь-в-точь средь сыров -- сыр страккино.
Но больше цветов и сыров Обожает тебя Гумпелино!
243
-- Дай мне бог здоровья, вот это здорово! -- воскликнул Гиацинт. -- Не мигайте мне, господин маркиз! Что вы знаете, то и я знаю, и что я знаю, то знаете и вы. До свидания, господин доктор. О пустячном долге я вам не напоминаю.
С этими словами он стал спускаться с холма, бормоча беспрестанно: "Гумпелино -- Страккино, Страккино -- Гумпелино".
-- Это преданный человек, -- сказал маркиз, -- иначе я давно бы отделался от него, потому что он не знает этикета. При вас это ничего. Вы ведь понимаете меня. Как вам нравится его ливрея? На ней позументов на сорок талеров больше, чем на ливрее у слуг Ротшильда. Я испытываю внутреннее удовольствие, когда подумаю, как он у меня совершенствуется. Временами я его сам поучаю для его образования. Часто я говорю ему: что такое деньги? Денежки -- круглые и катятся прочь, а образование остается. Да, доктор, если я, боже упаси, потеряю мои деньги, все же я останусь большим знатоком искусства, знатоком живописи, музыки, поэзии. Завяжите мне глаза и сведите меня в галерею во Флоренции, и у каждой картины, у которой вы меня поставите, я назову имя живописца, ее написавшего, или, по крайней мере, школу, к которой принадлежит живописец. Музыка? Заткните мне уши, и я все-таки услышу всякую фальшивую ноту. Поэзия? Я знаю всех актрис Германии и знаю наизусть всех поэтов. А уж природа! Я проехал двести миль, ехал дни и ночи напролет, чтобы увидеть только одну гору в Шотландии. Но Италия все превосходит. Как вам нравится эта местность? Что за произведение искусства? Взгляните на деревья, на горы, на небо, на воду, там внизу, разве все это как будто не нарисовано? Видели вы что-нибудь красивее в театрах? Становишься, так сказать, поэтом! Стихи приходят в голову, сам не знаешь откуда:
Под покровом сумерек в молчанье Дремлет поле, замер дальний гул;
И лишь здесь, в старинном грустном зданье,
Свой напев кузнечик затянул.
Эти торжественные слова маркиз продекламировал, весь исполненный умиления, с просветленным лицом, глядя вниз, на смеющуюся, светом утра озаренную долину.
244
ГЛАВА IV
Когда я однажды в прекрасный весенний день прогуливался в Берлине Под Липами, передо мною шли две женщины и долго молчали; наконец одна из них томно вздохнула: "Ах, эти зеленые деревья!" На что другая, молоденькая, спросила с наивным изумлением: "Мамаша, ну что вам за дело до зеленых деревьев?"
Я не могу не заметить, что хотя обе они и не были одеты в шелк, но все-таки отнюдь не принадлежали к черни, да и вообще в Берлине нет черни, разве только в высших сословиях. Что же касается этого наивного вопроса, то он не выходит у меня из памяти. Всякий раз, когда я ловлю людей на лицемерном восхищении природою и на прочих явных подделках, вопрос этот с забавным смехом оживает в моей памяти. Он и теперь вспомнился мне, когда маркиз стал декламировать, и маркиз, угадав насмешку на моих губах, воскликнул недовольно:
-- Не мешайте мне -- вы ничего не понимаете в том, что естественно, вы разорванный человек, разорванное сердце, вы, так сказать, Байрон.
Может быть, и ты, любезный читатель, принадлежишь к числу тех благочестивых птиц, что хором подпевают этой песне о надорванности Байрона -- песне, которую мне вот уже десять лет насвистывают и нащебечивают и которая нашла себе отзвук, как ты только что слышал, даже под черепом маркиза? Ах, дорогой читатель, если уж ты хочешь сокрушаться об этой надорванности, то уж лучше сокрушайся о том, что весь мир надорван по самой середине. А так как сердце поэта -- центр мира, то в наше время оно тоже должно самым жалостным образом надорваться. Кто хвалится, что сердце его осталось целым, тот признается только в том, что у него прозаичное, далекое от мира, глухое закоулочное сердце. В моем же сердце прошла великая мировая трещина, и именно поэтому я знаю, что великие боги милостиво отличили меня среди многих других и признали меня достойным мученического назначения поэта.
Когда-то -- в древности и в средние века -- мир был целостен; несмотря на внешнюю борьбу, все же сохранялось единство мира, и были цельные поэты. Воздадим честь этим поэтам и порадуемся им. Но всякое подража
245
ние их цельности есть ложь, ложь, которую насквозь видит всякий здоровый глаз и которая не укроется от насмешки. Недавно я с большим трудом раздобыл в Берлине стихотворения одного из таких цельных поэтов, столь горько сетовавшего на мою байроническую надорванность, и его фальшивая свежесть, его нежная восприимчивость к природе, словно свежим сеном пахнувшая на меня из книги, так на меня подействовала, что мое бедное сердце, давно уже надорванное, чуть не разорвалось от смеха, и я невольно воскликнул: "Дорогой мой интендантский советник Вильгельм Нейман, что вам за дело до зеленых деревьев?"
-- Вы разорванный человек, так сказать Байрон,-- повторял маркиз, все еще просветленно глядя на долину и щелкая время от времени языком в благоговейном восхищении.--Боже, боже! Все точно нарисовано.
Бедный Байрон! В таком безмятежном наслаждении тебе было отказано! Было ли сердце твое так испорчено, 'что ты мог только созерцать природу, изображать ее даже, но не мог находить в ней блаженства? Или прав Биши Шелли, когда он утверждает, что ты подсмотрел природу в ее целомудренной наготе и был разорван за то, подобно Актеону, ее собаками!
Довольно об этом; перед нами теперь -- предмет более приятный, а именно жилище синьор Летиции и Франчески, маленький белый домик, который как будто еще пребывает в неглиже; спереди у него два больших круглых окна, а высоко вытянувшиеся виноградные лозы свешивают над ними свои длинные отростки; это похоже на то, как будто пышные зеленые кудри спустились на глаза домика. Мы подходим к дверям -- и уже до нас доносится звонкая сутолока, льющиеся трели, аккорды гитары и смех. ГЛАВА V
Синьора Летиция, пятидесятилетняя юная роза, лежала в постели, напевала и болтала со своими двумя поклонниками, из которых один сидел перед ней на низенькой скамейке, а другой, развалившись в большом кресле, играл на гитаре. В соседней комнате тоже по временам как бы вспархивали обрывки нежной песни или еще бо
246
лее нежного смеха. С некоторой, довольно плоской ирониею, по временам овладевавшей маркизом, он представил меня синьоре и обоим господам, заметив, что я тот самый Иоганн Генрих Гейне, доктор прав, который так знаменит теперь в немецкой юридической литературе. К несчастью, один из гостей оказался профессором из Болоньи, и притом юристом, хотя его плавно округленное, полное брюшко свидетельствовало скорее о причастности к сферической тригонометрии. Несколько смутившись, я заметил, что пишу не под своим именем, а под именем Ярке. Я сказал это из скромности, -- мне пришло в голову одно из самых жалких насекомообразных в нашей юридической литературе. Болонец высказал, правда, сожаление, что не слышал еще этого знаменитого имени -- как, вероятно, не слышал и ты, любезный читатель, -- но выразил уверенность, что блеск его распространится скоро по всей земле. При этом он откинулся в кресле, взял несколько аккордов на гитаре и запел из "Аксура":