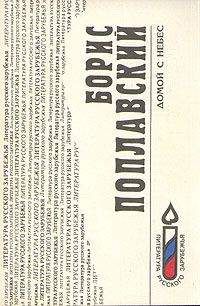Борис Поплавский - Орфей в аду
Константинополь, апрель 1919 г.
Новороссийск, январь 1920 г.
Истерика истерик*
Истерический всхлип с облаков.
Б. ПоплавскийИскариоты, Вы
Никуды
Я сам себя предал
От большого смеха болтаю ногами.
КрученыхБраво я тобой доволен
Пусть художник будет волен
А наука весела.
Ф. НицшеМоя рука рука глупца: горе всем столам и стенам и всему на чем есть место для украшений и пачканий глупца.
Заратустра. III. ст. 225Иному ты должен дать не руку а только лапу, а я хочу чтоб у лапы твоей были также когти.
Заратустра. I. ст. 35У Него пристальная голова, рассеченная пробором с спокойной истерикой в прорезах глаз, холодной, как блики на стали. Она — нечто фейерверочное, форма облачного моста, искривленная нервностью любовной спешки, угорелой суеты бульварной необходимости немедленной жизни. Жесткая немощь его бесподбородочного счастья при блеске наркотического магния въедалась в мрачные обои темных туманностей дней масляно-бесчисленной гладью узкоколейной реки с радужными разводами любовной нефти, стоячей канавы воспоминаний с чудовищным всплеском зоологического страдания, принявшей в свою дымчатую глубь стальные клочья теологических зорь, понтонных могил туч, невидимо бороздящих глубокое русло. Никогда не был этот человек собой, подобно тысяче заспанных смертью и простуженных жизнью агентов гудящего, как фабрика, города; сам был своим некто, на лазурной одежде неба, сине-эмалевом своде проникновенной профанации настоящей скорби чертил, ослепший от мерцания свечей, смеющихся чертей идеального человечества, как школьник мелом на засаленной спине лысого математика — этой зазубренной отмычкой несгораемого шкафа человеческой вечности, выроненной тюремщиком; некто, сожженным огромной слезинкой, граненой из огненной радуги неплачущей скорби Бога; некто, впервые растерявшимся от вопля при взрыве недостроенного пролета сумасшедшего моста человечества с коваными рельсами нервов на шпалах прессованных сердец к колонизированному ангелами солнцу. Чертил со свистом на громком небе моем ракетные орбиты Данииловых письмен.
| 2 |Рассеченное пробором Око его мутно любило улицу, глотая ацетиленовые улыбки моторного мелькания ее пестро-фугасных глаз, не беременело каторжной скорбью розовых умников, разрешаясь неистово-нежным, к упитанным пульсирующим гудом рабочим асфальтированных рудников багрового отчаянья, чахоточного румянца раскалившихся площадей под мутно-пьяными глазами выпученных на режущие флаги из окон витрин.
Жесткоглазых рабочих, которые в каждое жесткое утро и истерически обязывающий вечер с прокуренных нор шестиэтажного логова, с шахтерной лампочкой кармина на искривленном коме бессоницы и скуки, через вихристые штольни подъемных машин, заплеванные клети социальной трансформации[1] стекали трахомными слезами к вечно простуженному надорвавшимся вентилятором лабораторному <нрзб.> осеянно культурного способа коллективного лечения старого слона человечества, застоявшегося в зверинце у бога, рельсовых объятий бетонного удава, гигиеническим прорезом морщинистого живота, поселковой дороги пасторальному ветру, в визгливо урчащие галереи сводчатым дымом и туманом с ватной прослойкой истерик в крикливом воздухе; с библейскими маяками звезд лиловыми бликами тревожно скрипящих юпитеров, на каплях сырости громоздящихся верст столетиями оседающего потолка усталых небес в ссадинах копоти, царапинах дыма об черные зубы труб, которые нагло скалит улица у подкрашенных суриком губ из крыш. К копотным трамваям, светящимся вагонеткам потно-глыбастого труда, к красно-стремительным взрывам рудничного газа, выкряхтанного сердцами в портянках сволочи, рушащих на плечи сутулых от преющей силы блевотину аккуратного космоса в тысячах тонн шрапнели; к суетно-близкому, как дрель дантиста, маховому сознанию необходимости улыбча-то существовать, томительно намазывая на сверлящее сумасшествие бумажного хлеба маргаринное масло электрического света.
За забором пробора паяц не беременел сердцем, искрошенным в электрический суп, только, прищурившись, ставил отрывисто бьющиеся лохмотья грассирующих истерик, вырванных черными от легкомысленных трепанаций апельсиноподобного сердца хорошеньких нищих духом ржавыми ножами своих рассеянно подведенных глаз на движущиеся тротуары рельсодинамики своей дребезжащей интуиции, на аккуратно смазанных иронической реакцией шарикоподшипниках из женских глаз; молоча одинаково неистовей массивных электороотливок, образного эха, очередного кривомимичного выкидыша на резинке усталой стилизации или пыхтящего фуникулера нагромождений к верхней площадке из гипнотического солнца, на ископаемой спине пузатого дирижабля эрудиции. С смеющегося размаха ленивых концепций, как и по броско-эротической раскрепощенности стилизованной куклы из магазина Изы Кремер или по нагло-тревожной кувалде улыбки громко-картавой апостольской радости чумных зазубрин пудреного лезвия, победно носимого проституткой штандарта, красного от крови зарезанного Бога.
А по мощеным переулкам сердца все громыхало[2]лезвиями колес из отточенной логики — лязгающая поступь колоссального векселя — удушливыми балками, сетью колючих безжалостно координированных честолюбием воспоминаниями, — векселя, криво и косо исписанного Вечностью «с тех пор», измазанного кровью варварского маникюра эстетики, в пьяных подчистках, нарочно закапанных едкими чернилами любовий, с масляными лысинами разбрызганных, <в> эгоистической слюнявости пушечных возвратов, рабочих взрывов, неумелой нежности смазочных слезо-об-лачных подшипников в клепаном черепе Его многоцилиндрового сумасшествия.
Сутулые номера, украденные крашеным сутенером прошедшего.
Семнадцать астрономических нулей поставила оглохшая от выстрелов певица <?> в растерзанной кофточке застрелившихся материков и пьяных морей в замусленную тетрадку Евангельских откровений.
Семнадцать новых безмолвно хохочащих пастей невидимых капканов потухших орбит, сорвавшихся с оси обглоданных маховых колес в неосвещенные сараи гудящих мастерских вечности на звериной тропе венчальных столетий.
С тех пор, когда из заплеванного вагона полицейского Экспресса Стратегической дороги, из параболичной мерности темных туманных пятен, между боевыми гаванями крикливых узорных и пестрых городов: стремительных бегов в газообразном золоте победных радостей. Чугунной скользи колоссальных отливок терпкого безумья в откопанные провалы нарвавших могил, мрачные колодцы головокружительных туннелей, в чернильное небо Встревоженного ГРЯДУЩЕГО.
С тех пор, когда на географический перрон эстрады из потного грохота Двенадцатидюймовых пропеллеров, чеканящих бронзовые морды тропически радостных полдней, то гулкие зрачки полированной непрогляднос-ти Черной громады полночей.
А на промозглой ряби серо-защитной мути усталой вечности каторжной чуткости маховых будней лопающиеся пузыри сумасшедшего грохота с вздувшимися жилами проводов на клепаных[3] лбах дневного ожога громовых памятей в клетчатых лохмотьях гремящей гари фабричных корпусов. Удушливые взрывы прессованного грохота, чугунная мелодия ночного дрожания арсеналов и верфей, солнцегремящих броневиков из прокованных туч <нрзб.> молний за пристальными зрачками чутких орудий в кружевных кофточках блестящих механизмов, захлебывающиеся визги восторженных пулеметов, победные петли никелированных метеоров с оглушительно орущими пропеллерами, прихотливо вырезанными из неба разноцветными крыльями, прошитыми серебряной проволокой истерик арсеналов и верфей. Металлические здания громоносной улицы, ухабисто мощеной черепами издохших планет — громоносная четкость улицы пантеизма, гудящей двигателями столицы, накокаиненной истерикой смеющейся поступи мерного синтеза Сиятельной Вечности с сбившимся в астрономическом беге шиньоном дыма.
Гулкие пролеты трясущихся небоскребов интуиции, залитые могучим светом электрических солнц, восторженных кранов с стеклянными ящиками бенгальского наркоза в блестящих шарнирах стального кулака.
Семнадцать лет как между правой и левой бесконечностью спрыгнул из заплеванного вагона лысый агент в измазанных пеленках ношеных недель сутулого детства к пыльной решетке зевающего исступления сточной клоаки Современности, вокзальной мути, к обшморганному буфету сентиментальных возможностей, бесстыдно заставленному дешевыми стеклянными тарелками холодного супа любви с плавающими пятнами сала, стертыми монетками серой эротичной мило-голубой богадельни надорвавшихся зорь. Семнадцать и Тысячу нарочитых усталостей от бьющих шумов случайно изжеванных зорь.