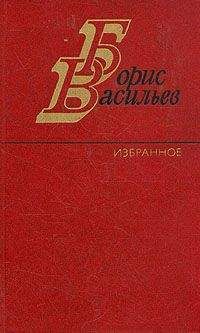Борис Корнилов - Стихотворения. Поэмы
<1936>
Котовский (Из поэмы)
Бессарабия, родина, мама.
Кишиневский уезд,
беднота и тюрьма
о тебе вспоминают упрямо,
через тюрьмы и аресты
прямо
ты прошел, словно буря сама.
Пусть тебя караулит доносчик,
надзиратели, сволочи, злы,
и смеются: попался, сыночек…
И, ржавея, гремят кандалы.
Ты, в глаза усмехнувшийся горю,
говоришь каторжанам-друзьям,
как помещики мучают, порют,
на конюшне терзают крестьян.
Ты рассказываешь про горе,
руки тянутся сразу к ножам.
Ты, огромный,
Котовский Григорий,
под начало берешь каторжан.
Избирают тебя атаманом
все отчаянные подряд, —
и пошли по ночам,
по туманам, —
твой — Котовского —
первый отряд,
и, могилу несчастиям вырыв,
зная —
бедным невмоготу,
ты деньгами панов и банкиров
одаряешь кругом бедноту.
Пятый год…
Это страх и смятенье
для помещиков,
вызов на бой.
Пугачева и Разина тени,
как легенды, летят за тобой.
Пятый год…
На засовы и ставни
запирается пан по домам,
и при слове «Котовский»
исправник задрожит и кричит:
— Атаман!
Все князья собираются вместе,
кое-где поднял вилы вассал…
Пятый год —
и тогда полицмейстер
так приметы твои описал:
«Про наружность — она молодая,
рослый,
якобы с доброй душой,
заикается,
но обладает
он ораторской силой большой.
И еще довожу настоящим —
к сожаленью, не в наших руках…
Симпатичен,
умен
и изящен,
говорит на пяти языках».
Где, отходную пану прокаркав,
сивый ворон летит в полутьме,
где жандармы,
пожары фольварков,
где мужик сам себе на уме,
где нужда в постоянной защите,
где расплата кнутом за труды,
там Григорий Котовский…
Ищите
там Котовского всюду следы.
Год шестой.
На одесском вокзале
конвоиры примкнули штыки,
опознали его —
и связали —
и на каторгу,
в рудники.
Много стен
и высоких и прочных,
за стеною —
болото,
тайга,
арестант-каторжаанин,
бессрочник,
ходит-думает:
«Надо в бега».
Скучно в шахте сырой молодому,
ходит-думает,
темный и злой:
«Хватит все-таки,
двину до дому —
семь годов просидел под землей».
И, отважный из самых отважных,
он однажды решился,
и вот
каторжанин сбежал.
Только стражник
в небо мучеником плывет.
Как ему полагалось по чину,
кровью грязною снег замочил,
принял ангельскую кончину
и на веки веков опочил.
А Котовский тайгою звериной
двадцать суток без устали шел,
был сугроб ему на ночь периной,
бел и холоден,
мягок,
тяжел.
Выли волки протяжно и робко,
но костер — замечательный страж.
Только сахар
и спичек коробка —
весь его арестантский багаж.
Бездорожье,
безмолвье мороза,
заморожено все добела,
на сибирском морозе береза,
хоть сильна,
да и то померла.
Где от холода схорониться?
Звери,
голод,
мороз,
воронье.
Но монгольская близко граница,
и Котовский дошел до нее.
Это силы и смелости проба,
все пошло как по маслу
на лад,
арестантская сброшена роба —
коты рваные,
серый халат.
…………
На свободе,
но черная,
злая,
встала туч грозовая стена,
и стена закружилась, пылая, —
год четырнадцатый.
Война.
<1936>
Дети
Припоминаю лес, кустарник,
незабываемый досель,
увеселенья дней базарных —
гармонию и карусель.
Как ворот у рубахи вышит —
звездою,
гладью
и крестом,
как кони пляшут,
кони пышут
и злятся на лугу пустом.
Мы бегали с бумажным змеем,
и учит плавать нас река,
еще бессильная рука,
и ничего мы не умеем.
Еще страшны пути земные,
лицо холодное луны,
еще для нас
часы стенные
великой мудрости полны.
Еще веселье и забава,
и сенокос,
и бороньба,
но все же в голову запало,
что вот — у каждого судьба.
Что будет впереди, как в сказке, —
один индейцем,
а другой —
пиратом в шелковой повязке,
с простреленной в бою ногой.
Так мы растем.
Но по-иному
другие годы говорят:
лет восемнадцати из дому
уходим, смелые, подряд.
И вот уже под Петербургом
любуйся тучею сырой,
довольствуйся одним окурком
заместо ужина порой.
Глотай туман зеленый с дымом
и торопись ко сну скорей,
и радуйся таким любимым
посылкам наших матерей.
А дни идут.
Уже не дети,
прошли три лета,
три зимы,
уже по-новому на свете
воспринимаем вещи мы.
Позабываем бор сосновый,
реку
и золото осин,
и скоро десятифунтовый
у самого родится сын.
Он подрастет, горяч и звонок,
но где-то есть
при свете дня,
кто говорит, что «мой ребенок»
про бородатого меня.
Я их письмом не побалую
про непонятное свое.
Вот так и ходит вкруговую
мое большое бытие.
Измерен весь земной участок,
и я, волнуясь и скорбя,
уверен, что и мне не часто
напишет сын мой про себя.
<1936>
Испания
Я иду, меня послали
сквозь войны свистящий град,
через горы
прямо к славе
знаменитых баррикад.
Все в дороге незнакомо,
но иду неутомимо
мимо сломанного дола,
мимо боевого дыма.
Он, подобный трупной мухе,
через час уйдет назад.
На его лиловом брюхе
бомбы круглые висят.
Он летает над Мадридом.
Я прицелился в него,
даже шепотом не выдам
зла и горя моего.
О свобода,
наша слава,
наших песен колыбель —
эта гнойная отрава
прилетела не к тебе ль?
Стервенея и воняя,
гадя,
заживо гния,
продавая,
изменяя, —
то ворона,
то змея.
Ночь пришла…
Республиканцы
отдыхают до утра.
Подхожу я к Санчо Панса,
с ним прилягу у костра.
Санчо прячется от ветра.
Санчо греется в дыму,
Сервантес де Сааведра
вспоминается ему.
И идет гроза по людям —
что теперь довольно!
Впредь
на коленях жить не будем —
лучше стоя умереть.
Я прошу у Санчо Панса —
он в десятый раз опять
мне расскажет, что испанцы
не желают умирать.
Что за нами
наши дети
тоже выстроились в ряд,
что сегодня на планете
по-испански говорят.
<1936>
Чиж
За садовой глухой оградой
ты запрятался —
серый чиж…
Ты хоть песней меня порадуй.
Почему, дорогой, молчишь?
Вот пришел я с тобой проститься,
и приветливый
и земной,
в легком платье своем из ситца
как живая передо мной.
Неужели же всё насмарку?..
Даже в памяти не сбережем?..
Эту девушку и товарку
называли всегда чижом.
За веселье, что удалось ей…
Ради молодости земли
кос ее золотые колосья
мы от старости берегли.
Чтобы вроде льняной кудели
раньше времени не седели,
вместе с лентою заплелись,
небывалые, не секлись.
Помню волос этот покорный,
мановенье твоей руки,
как смородины дикой, черной
наедались мы у реки.
Только радостная, тускнея,
в замиранье,
в морозы,
в снег
наша осень ушла, а с нею
ты куда-то ушла навек.
Где ты —
в Киеве?
Иль в Ростове?
Ходишь плача или любя?
Платье ситцевое, простое
износилось ли у тебя?
Слезы темные
в горле комом,
вижу горести злой оскал…
Я по нашим местам знакомым,
как иголку, тебя искал.
От усталости вяли ноги,
безразличны кусты, цветы…
Может быть,
по другой дороге
проходила случайно ты?
Сколько песен от сердца отнял,
как тебя на свиданье звал!
Только всю про тебя сегодня
подноготную разузнал.
Мне тяжелые, злые были
рассказали в этом саду,
как учительницу убили
в девятьсот тридцатом году.
Мы нашли их,
убийц знаменитых,
то — смутители бедных умов
и владельцы железом крытых,
пятистенных
и в землю врытых
и обшитых тесом домов.
Кто до хрипи кричал на сходах:
— Это только наше, ничье…
Их теперь называют вот как,
злобно,
с яростью…
— Кулачье…
И теперь я наверно знаю —
ты лежала в гробу, бела, —
комсомольская,
волостная
вся ячейка за гробом шла.
Путь до кладбища был недолог,
но зато до безумья лют —
из берданок
и из двустволок
отдавали тебе салют.
Я стою на твоей могиле,
вспоминаю во тьме дрожа,
как чижей мы с тобой любили,
как любили тебя, чижа.
Беспримерного счастья ради
Всех девчат твоего села,
наших девушек в Ленинграде
гибель тяжкую приняла.
Молодая,
простая,
знаешь?
Я скажу тебе, не тая,
что улыбка у них такая ж,
как когда-то была твоя.
<1936>