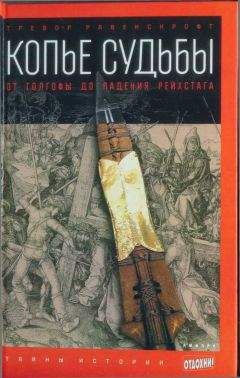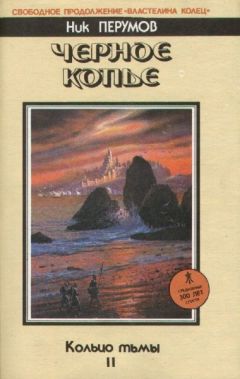Александр Кушнер - Избранное
Вспомним рифмовку в стихах раннего Пастернака, состоящую сплошь из приблизительных, зато непредсказуемых рифм: адрес – театре, страшное – спрашивают, лучшее – мучает, слышал – мыши, белокуры – набедокурить, радостно - градусе и т.д.) И строка тогда у него бежала с наклоном вправо, к рифме – маховому колесу захлебывающегося от восторга и спешки стиха. И хотя рифма раннего Заболоцкого была куда более скромной, тем не менее и он позволял себе время от времени знакомить на рифме далекие слова, обращаясь к экзотической лексике: мамка - полигамка (“Купальщик”), номер – соломе, змея – завия, ужас – наружу, баня – хулиганя, одинокая – охая (“Цирк”)
Стиль 40-50-х подразумевает также присутствие некоторой примеси дидактики, поучения. “Быть знаменитым некрасиво…”, “Не спи, не спи, работай…” (хотя, конечно, “Ночь” – великое стихотворение – и его отзвук слышен в стихотворении Заболоцкого “Не позволяй душе лениться!”, назойливом в своей повелительной модальности), “Старая актриса”, “Неудачник”…
Что касается лучших стихов, высших достижений поэтического стиля, каждый безошибочно назовет “Август”, “Рождественскую звезду”, “Вакханалию”, “В больнице”, “Свидание” (“Засыпет снег дороги”, “Разлуку” (“С порога смотрит человек…”), “Ночь” и “Зимнюю ночь”, “Божий мир” (“Тени вечера волоса тоньше…), а Заболоцкий непредставим без “Прощания с друзьями”, “Где-то в поле возле Магадана”, “Бегства в Египет”, “Уступи мне, скворец, уголок”, “Приближался апрель к середине”, “Чертополоха”…* Назовем здесь еще, вспомнив то, с чего мы начали, и те стихи, в которых местоимение первого лица стоит у него в начале первой строки: “Я воспитан природой суровой…”, “Я не ищу гармонии в природе…”, “Я твой родничок, Сагурамо…”, “Я трогал листы эвкалипта…”, “Я увидел во сне можжевеловый куст…” Перечень, разумеется, далеко не полон. И подумаешь: несмотря на все издержки и “поражения”, имело смысл меняться, уходить от замечательной манеры ранних стихов, столь любимых нами, чтобы были написаны эти стихи.
2003
_____________________________________________________________________
* Говоря о Заболоцком, опускаю его промежуточный, “холодный”, одический период 30-х годов, совпавший с официальной установкой на монументальность, но, конечно, превосходящий все ее искусственные и напыщенные образцы ошеломительным звучанием, образной пластикой, зоркостью, точностью и метафоричностью. Другие примеры того же монументального стиля – поэма “Киров с нами” Тихонова (“шаги командора” на советский, партийный лад), мемориальные стихи Берггольц, некоторые стихи 40-х - начала 50-х Ахматовой.
***
Разве можно после Пастернака
Написать о елке новогодней?
Можно, можно! - звезды мне из мрака
Говорят, - вот именно сегодня.
Он писал при Ироде: верблюды
Из картона, - клей и позолота, -
В тех стихах евангельское чудо
Превращали в комнатное что-то.
И волхвы, возможные напасти
Обманув, на валенки сапожки
Обменяв, как бы советской власти
Противостояли на порожке.
А сегодня елка - это елка,
И ее нам, маленькую, жалко.
Веточка, колючая, как челка,
Лезет в глаз, - шалунья ты, нахалка!
Нет ли Бога, есть ли Он, - узнаем,
Умерев, у Гоголя, у Канта,
У любого встречного, - за краем.
Нас устроят оба варианта.
ПОЧЕМУ ОНИ НЕ ЛЮБИЛИ ЧЕХОВА?
О нелюбви Ахматовой к Чехову рассказали многие мемуаристы, этой теме посвятил Лев Лосев статью (“Звезда” №7 2002), в которой справедливо заметил, что относилась она к Чехову даже не равнодушно, как, скажем, Гумилев или Мандельштам, “а с отрицательной агрессивностью”. Объяснений этому феномену (при том, что художественный метод Ахматовой роднит ее с Чеховым), Л.Лосев не находит: “неприязнь Ахматовой к Чехову, при их несомненном литературном сродстве, иррациональна, загадочна, и все гипотетические объяснения неудовлетворительны”. Остается разве что, согласно теории Харольда Блума, объяснить эту неприязнь “неврозом влияния”: “По Блуму, - говорит Лосев, - все великие поэты страдают “неврозом влияния”, и первейший симптом этого невроза – отталкивание от источника влияния, т.е от непосредственного предшественника”.
Такой довод представляется остроумным и почти убедительным, - но вот ведь Анненский был предшественником Ахматовой, оказал на нее очевидное влияние, однако никакого невроза в связи с этим обнаружить невозможно, скорей, наоборот, - Ахматова горда этим своим ученичеством.
И как согласно теории Блума объяснить “агрессивность” того же Анненского по отношению к Чехову? Анненский старше Чехова на четыре года, следовательно, назвать Чехова предшественником Анненского нельзя, но можно отметить их литературное родство: достаточно сравнить, например, “Даму с собачкой” с “Прерывистыми строками”, а, скажем, “Скучную историю”… “Скучную историю” можно сравнить едва ли не с любым стихотворением Анненского, подойдут и “Тоска маятника”, и “Зимний сон” (“Вот газеты свежий нумер…”), и “Лира часов”… Между тем что же писал Анненский о Чехове? “Я перечитал опять Чехова… И неужто же, точно, русской литературе надо было вязнуть в болотах Достоевского и рубить с Толстым вековые деревья, чтобы стать обладательницей этого палисадника… Я чувствую, что больше никогда не примусь за Чехова. Это сухой ум, и он хотел убить в нас Достоевского – я не люблю Чехова и статью о “Трех сестрах”, вернее всего, сожгу…”. (письмо к Е.М.Мухиной от 5 июня 1905 года). И далее в том же письме он спрашивает: “Что он любил, кроме парного молока и мармелада?” И все это сказано лишь год спустя после смерти Чехова!
Что касается молока и мармелада, то их любил, я думаю, не Чехов (“Ужин прощальный, по случаю закрытия сезона… Я пил немного, но беспорядочно, мешал ликеры с коньяком…” - из письма Суворину 20 февраля 1889г.; “…потом пошел гулять, потом был в поганом трактире…, потом пошел в пакостные места, где беседовал со студентом-математиком и с музыкантами, потом вернулся домой, выпил водки, закусил…” (Н.Н. Оболонскому 28 апреля 1889) и т.п), а как раз Анненский (в хлестких фразах человек, как правило, далеко за словами не ходит, берет первое, попавшееся под руку). И в его столь дорогих для нас стихах эпитет “молочный” – частый гость: “День был ранний и молочно-парный…”, “Но на пятна нив и рощ Только блеск молочный льется…” (“В дороге”) и т.д. Интересно, любил ли мармелад Достоевский? Сонечка-то у него Мармеладова!
Кое-что в нелюбви Анненского, Ахматовой (наверное, и Мандельштама, и Гумилева, и Цветаевой) к Чехову может объяснить отношение к нему Ходасевича. Свою статью 1929 года “О Чехове”, приуроченную к двадцатипятилетию со дня смерти писателя, он построил на противопоставлении Чехова … Державину! “Эта годовщина застает меня в такие дни, когда мысль (да признаться – и сердце) заняты другим именем, совсем другим творческим и человеческим образом”. Уже из этой, второй фразы юбилейной статьи понятно, что Чехову и в годовщину смерти “не поздоровится”.
Так и есть. “Один – здоровый, кряжистый, долговечный. Другой – слабый, подслеповатый, вечно кашляющий, рано умерший”. Можно подумать, что Ходасевич – не слабый, не подслеповатый, не вечно кашляющий! И Ходасевич, и Ахматова с ее туберкулезом в молодые годы, и Анненский с больным сердцем уж не потому ли отворачивались от Чехова, что слишком хорошо знали, что такое болезнь – и боялись ее? Тянулись к здоровым людям. (Не выдать ли нам это соображение за еще одну версию, и тоже малоубедительную?). Впрочем, если вглядеться в молодые фотографии Чехова, видно, каким он был сильным, мужественным, красивым, привлекательным человеком. Это Чехов-то “слабый”? Это Чехов-то “подслеповатый”? Кто же еще так зорко видит мир, и не только своими глазами, но и глазами своих персонажей? “А как тепло, как мягки на вид облака, разбросанные в беспорядке по небу, как кротки и уютны тени тополей и акаций, - тени, которые тянутся через всю широкую улицу и захватывают на другой стороне дома до самых балконов и вторых этажей!” (“Учитель словесности”). А вот Зина из рассказа “Соседи”, разрывающаяся между любовью к брату и несуразному, запутавшемуся возлюбленному: “У вас обоих плечи мокрые от дождя, - сказала Зина и радостно улыбнулась; она была тронута этим маленьким сходством между братом и Власичем”.
С кем угодно можно сравнить Чехова. Например, с Толстым (Чехов, при всей его любви к Толстому, в своей прозе спорил с ним, возражал ему, используя, кстати сказать, толстовские мотивы и ситуации). С Тургеневым. С Достоевским (Достоевского ему противопоставляли многие, от Анненского и Ахматовой в порицательном до Набокова – в одобрительном смысле). Даже с Ходасевичем. (“Вот в этом палаццо жила Дездемона. Всё это неправда, но стыдно смеяться. Смотри, как стоят за колонной колонна Вот в этом палаццо…”, а в “Рассказе неизвестного человека” герой вспоминает: “Я любил сидеть на солнышке, слушать гондольера, не понимать и по целым часам смотреть на домик, где говорят, жила Дездемона, - наивный, грустный домик с девственным выражением, легкий, как кружево, до того легкий, что, кажется, его можно сдвинуть с места одной рукой”. Да и в письмах из Италии Чехов не уступает в своем восхищении Венецией Ходасевичу: “Я теперь в Венеции, куда приехал третьего дня из Вены. Одно могу сказать: замечательнее Венеции я в своей жизни городов не видел… Плывешь в гондоле и видишь дворцы дожей, дом, где жила Дездемона…”. Но додуматься до сопоставления Чехова с Державиным! Державин у Ходасевича “мускулистый”, весь – “парение, порывание, взлет”. Чехов – “хилый”, “весь обычаен”, “совсем не хочет парить”, “привязан к земле, ко всему простейшему, самому будничному, и в бессмертие души он, по-видимому, не верит”. “Чеховская чайка не стремится ввысь, как державинский лебедь; она стелется над водой и льнет к берегу”. Так и кажется, что еще немного – и Ходасевич договорится до пошлостей горьковского “Буревестника”.