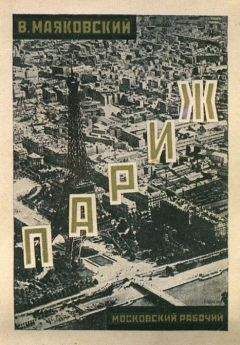Владимир Маяковский - Том 8. Стихотворения, поэма, очерки 1927
[1927]
Баку*
Объевшись рыбачьими шхунами до́сыта,
Каспийское море
пьяно от норд-оста.
На берегу —
волна неуклюжа
и сразу
ложится
недвижимой лужей.
На лужах
и грязи,
берег покрывшей,
в труде копошится
Баку плоскокрыший.
Песчаная почва
чахотит деревья,
норд-ост шатает, веточки выстегав.
На всех бульварах,
под башней Девьей*,
каких-нибудь
штук восемнадцать листиков.
Стой
и нефть таскай из песка —
тоска!
Что надо
в этом Баку
Детерди́нгу*?
Он может
купить
не Баку —
а картинку.
Он может
купить
половину Сицилии
(как спички
в лавке
не раз покупали мы).
Ему
сицилийки не нравятся?
Или
природа плохая?
Финики, пальмы!
Не уговоришь его,
как ни усердствуй.
Сошло
с Детерди́нга
английское сэрство.
И сэр
такой испускает рык,
какой
испускать
лабазник привык:
— На кой они хрен мне,
финики эти?!
Нефти хочу!
Нефти!!!
Это что ж за такая за нефть?
Что за вещь за такая
паршивая,
если, презрев
сицилийских дев,
сам Детердинг,
осатанев*,
стал
печатать
червонцы фальшивые?
Сила нефти:
в грядущем бреду,
если сорвется
война с якорей,
те,
кто на нефти,
с эскадрой придут
к вражьему берегу
вдвое скорей.
С нефтью
не страшны водные рвы.
Через волну
в океанском танце
на броненосце
несетесь вы —
прямо
и мимо угольных станций.
Уголь
чертит опасности имя,
трубы эскадры задравши ввысь.
Нефть —
это значит:
тих и бездымен
у берегов
внезапно явись.
Лошадь што?!
От старья останки.
Дом обходит,
вязнет в низине…
Нефть —
это значит,
что тракторы,
танки —
аж на рожон
попрут на бензине.
Нефть —
это значит:
усядься роскошно,
аэрокрылья расставив врозь.
С чистого неба
черным коршуном
наземь
бомбу смертельную брось.
Это
мильонщиком стал оголец,
если
фонтан забьет, бушуя.
Нефть —
это то,
за что горлец
друг другу выгрызут
два буржуя.
Нефть —
это значит:
сильных не гневайте!
Пожалте, колонии, —
в пасть влазьте!
Нефть —
это значит:
владыка нефти —
владелец морей
и держатель власти.
Значит,
вот почему Детердингу
дайте нефть
и не надо картинку!
Вот почему
и сэры все
на нефть
эсэсэрскую лезут.
От наших
Баку
отваливай, сэр!
Самим нужно до зарезу.
Баку, 5/XII — 27 г.
Солдаты Дзержинского*
Вал. М.
Тебе, поэт,
тебе, певун,
какое дело
тебе
до ГПУ?!
Железу —
незачем
комплименты лестные.
Тебя
нельзя
ни славить
и ни вымести.
Простыми словами
говорю —
о железной
необходимости.
Крепче держись-ка!
Не съесть
врагу.
Солдаты
Дзержинского
Союз
берегут.
Враги вокруг республики рыскают.
Не к месту слабость
и разнеженность весенняя.
Будут
битвы
громше,
чем крымское
землетрясение.
Есть твердолобые
вокруг
и внутри —
зорче
и в оба,
чекист,
смотри!
Мы стоим
с врагом
о скулу скула́,
и смерть стоит,
ожидает жатвы.
ГПУ —
это нашей диктатуры кулак
сжатый.
Храни пути и речки,
кровь
и кров,
бери врага,
секретчики*,
и крой,
КРО*!
[1927]
Хорошо!*
Время —
вещь
необычайно длинная, —
были времена —
прошли былинные.
Ни былин,
ни эпосов,
ни эпопей.
Телеграммой
лети,
строфа!
Воспаленной губой
припади
и попей
из реки
по имени — «Факт».
Это время гудит
телеграфной струной,
это
сердце
с правдой вдвоем.
Это было
с бойцами,
или страной,
или
в сердце
было
в моем.
Я хочу,
чтобы, с этою
книгой побыв,
из квартирного
мирка
шел опять
на плечах
пулеметной пальбы,
как штыком,
строкой
просверкав.
Чтоб из книги,
через радость глаз,
от свидетеля
счастливого, —
в мускулы
усталые
лилась
строящая
и бунтующая сила.
Этот день
воспевать
никого не наймем.
Мы
распнем
карандаш на листе,
чтобы шелест страниц,
как шелест знамен,
надо лбами
годов
шелестел.
«Кончайте войну!
Довольно!
Будет!
В этом
голодном году —
невмоготу.
Врали:
«народа —
свобода,
вперед,
эпоха,
заря…» —
и зря.
Где
земля,
и где
закон,
чтобы землю
выдать
к лету? —
Нету!
Что же
дают
за февраль,
за работу,
за то,
что с фронтов
не бежишь? —
Шиш.
На шее
кучей
Гучковы*,
черти,
министры,
Родзянки*…
Мать их за́ ноги!
Власть
к богатым
рыло
воротит —
чего
подчиняться
ей?!.
Бей!!»
То громом,
то шепотом
этот ропот
сползал
из Керенской*
тюрьмы-решета.
В деревни
шел
по травам и тропам,
в заводах
сталью зубов скрежетал.
Чужие
партии
бросали швырком.
— На что им
сбор
болтунов
дался́?! —
И отдавали
большевикам
гроши,
и силы,
и голоса.
До са́мой
мужичьей
земляной башки
докатывалась слава, —
лила́сь
и слы́ла,
что есть
за мужиков
какие-то
«большаки»
— у-у-у!
Сила! —
Царям
дворец
построил Растрелли*.
Цари рождались,
жили,
старели.
Дворец
не думал
о вертлявом постреле,
не гадал,
что в кровати,
царицам вверенной,
раскинется
какой-то
присяжный поверенный*.
От орлов,
от власти,
одеял
и кру́жевца
голова
присяжного поверенного
кружится.
Забывши
и классы
и партии,
идет
на дежурную речь.
Глаза
у него
бонапартьи*
и цвета
защитного
френч.
Слова и слова.
Огнесловая лава.
Болтает
сорокой радостной.
Он сам
опьянен
своею славой
пьяней,
чем сорокаградусной.
Слушайте,
пока не устанете,
как щебечет
иной адъютантик:
«Такие случаи были —
он едет
в автомобиле.
Узнавши,
кто
и который, —
толпа
распрягла моторы!
Взамен
лошадиной силы
сама
на руках носила!»
В аплодисментном
плеске
премьер
проплывает
над Невским,
и дамы,
и дети-пузанчики
кидают
цветы и роза́нчики.
Если ж
с безработы
загрустится
сам
себя
уверенно и быстро
назначает —
то военным,
то юстиции,
то каким-нибудь
еще
министром*.
И вновь
возвращается,
сказанув,
ворочать дела
и вертеть казну.
Подмахивает подписи
достойно
и старательно.
«Аграрные?
Беспорядки?
Ряд?
Пошлите,
этот,
как его, —
карательный
отряд!
Ленин?
Большевики?
Арестуйте и выловите!
Что?
Не дают?
Не слышу без очков.
Кстати…
об его превосходительстве…
Корнилове*…
Нельзя ли
сговориться
сюда
казачков?!.
Их величество?
Знаю.
Ну да!..
И руку жал.
Какая ерунда!
Императора?
На воду?
И черную корку?
При чем тут Совет?
Приказываю
туда,
в Лондон,
к королю Георгу»*.
Пришит к истории,
пронумерован
и скре́плен.
и его
рисуют —
и Бродский и Репин*.
Петербургские окна.
Синё и темно.
Город
сном
и покоем скован.
НО
не спит
мадам Кускова*.
Любовь
и страсть вернулись к старушке.
Кровать
и мечты
розоватит восток.
Ее
воло̀с
пожелтелые стружки
причудливо
склеил
слезливый восторг.
С чего это
девушка
сохнет и вянет?
Молчит…
но чувство,
видать, велико̀.
Ее
утешает
усастая няня,
видавшая виды, —
Пе Эн Милюков*.
«Не спится, няня…
Здесь так душно…
Открой окно
да сядь ко мне»*.
— Кускова,
что с тобой? —
«Мне скушно…
Поговорим о старине».
— О чем, Кускова?
Я,
бывало,
хранила
в памяти
немало
старинных былей,
небылиц —
и про царей
и про цариц.
И я б,
с моим умишкой хилым, —
короновала б
Михаила*.
Чем брать
династию
чужую…
Да ты
не слушаешь меня?! —
«Ах, няня, няня,
я тоскую.
Мне тошно, милая моя.
Я плакать,
я рыдать готова…»
— Господь помилуй
и спаси…
Чего ты хочешь?
Попроси.
Чтобы тебе
на нас
не дуться,
дадим свобод
и конституций…
Дай
окроплю
речей водою
горящий бунт… —
«Я не больна.
Я…
знаешь, няня…
влюблена…»
— Дитя мое,
господь с тобою! —
И Милюков
ее
с мольбой
крестил
профессорской рукой.
— Оставь, Кускова,
в наши лета
любить
задаром
смысла нету. —
«Я влюблена», —
шептала
снова
в ушко
профессору
она.
— Сердечный друг,
ты нездорова. —
«Оставь меня,
я влюблена».
— Кускова,
нервы, —
полечись ты… —
«Ах, няня,
он
такой речистый…
Ах, няня-няня!
няня!
Ах!
Его же ж
носят на руках.
А как поет он
про свободу…
Я с ним хочу, —
не с ним,
так в воду».
Старушка
тычется в подушку,
и только слышно:
«Саша! —
Душка!»
Смахнувши
слезы
рукавом,
взревел усастый нянь:
— В кого?
Да говори ты нараспашку! —
«В Керенского…»
— В какого?
В Сашку? —
И от признания
такого
лицо
расплы́лось
Милюкова.
От счастия
профессор о́жил:
— Ну, это что ж —
одно и то же!
При Николае
и при Саше
мы
сохраним доходы наши. —
Быть может,
на брегах Невы
подобных
дам
видали вы?
Звякая
шпорами
довоенной выковки,
аксельбантами
увешанные до пупов,
говорили —
адъютант
(в «Селекте» на Лиговке)*
и штабс-капитан
Попов.
«Господин адъютант,
не возражайте,
не дам, —
скажите,
чего еще
поджидаем мы?
Россию
жиды
продают жидам,
и кадровое
офицерство
уже под жидами!
Вы, конешно,
профессор,
либерал,
но казачество,
пожалуйста,
оставьте в покое.
Например,
мое положенье беря,
это…
черт его знает, что это такое!
Сегодня с денщиком:
ору ему
— эй,
наваксь
щиблетину,
чтоб видеть рыло в ней! —
И конешно —
к матушке,
а он меня
к моей,
к матушке,
к свет
к Елизавете Кирилловне!»
«Нет,
я не за монархию
с коронами,
с орлами,
НО
для социализма
нужен базис.
Сначала демократия,
потом
парламент.
Культура нужна.
А мы —
Азия-с!
Я даже —
социалист.
Но не граблю,
не жгу.
Разве можно сразу?
Конешно, нет!
Постепенно,
понемногу,
по вершочку,
по шажку,
сегодня,
завтра,
через двадцать лет.
А эти?*
От Вильгельма* кресты да ленты.
В Берлине
выходили
с билетом перронным.
Деньги
штаба —
шпионы и аге́нты.
В Кресты* бы
тех,
кто ездит в пломбиро́ванном!»
«С этим согласен,
это конешно,
этой сволочи
мало повешено».
«Ленина,
который
смуту сеет,
председателем,
што ли,
совета министров?
Что ты?!
Рехнулась, старушка Рассея?
Касторки прими!
Поправьсь!
Выздоровь!
Офицерам —
Суворова,
Голенищева-Кутузова
благодаря
политикам ловким
быть
под началом
Бронштейна бескартузого*,
какого-то
бесштанного
Лёвки?!
Дудки!
С казачеством
шутки плохи́ —
повыпускаем
им
потроха…»
И все адъютант
— ха да хи —
Попов
— хи да ха. —
«Будьте дважды прокляты
и трижды поколейте!
Господин адъютант,
позвольте ухо:
их
…ревосходительство
…ерал
Каледин*,
с Дону,
с плеточкой,
извольте понюхать!
Его превосходительство…
Да разве он один?!
Казачество кубанское,
Днепр,
Дон…»
И всё стаканами —
дон и динь,
и шпорами —
динь и дон.
Капитан
упился, как сова.
Челядь
чайники
бесшумно подавала*.
А в конце у Лиговки
другие слова
подымались
из подвалов.
«Я,
товарищи, —
из военной бюры.
Кончили заседание —
то̀ка-то̀ка.
Вот тебе,
к маузеру,
двести бери,
а это —
сто патронов
к винтовкам.
Пока
соглашатели
замазывали рты,
подходит
казатчина
и самокатчина.
Приказано
питерцам
идти на фронты,
а сюда
направляют
с Гатчины.
Вам,
которые
с Выборгской стороны*,
вам
заходить
с моста Литейного*.
В сумерках,
тоньше
дискантовой струны,
не галдеть
и не делать
заведенья питейного.
Я
за Лашевичем*
беру телефон, —
не задушим,
так нас задушат.
Или
возьму телефон,
или вон
из тела
пролетарскую душу.
Сам
приехал,
в пальтишке рваном, —
ходит,
никем не опознан.
Сегодня,
говорит,
подыматься рано.
А послезавтра —
поздно*.
Завтра, значит.
Ну, не сдобровать им!
Быть
Кере́нскому
биту и ободрану!
Уж мы
подымем
с царёвой кровати
эту
самую
Александру Федоровну*».
Дул,
как всегда,
октябрь
ветра́ми,
как дуют
при капитализме.
За Троицкий*
дули
авто и трамы,
обычные
рельсы
вызмеив.
Под мостом
Нева-река,
по Неве
плывут кронштадтцы…
От винтовок говорка
скоро
Зимнему шататься.
В бешеном автомобиле,
покрышки сбивши,
тихий,
вроде
упакованной трубы,
за Гатчину,
забившись,
улепетывал бывший —
«В рог,
в бараний!
Взбунтовавшиеся рабы!..»*
Видят
редких звезд глаза,
окружая
Зимний
в кольца,
по Мильонной*
из казарм
надвигаются кексгольмцы*.
А в Смольном,
в думах
о битве и войске,
Ильич
гримированный*
мечет шажки,
да перед картой
Антонов с Подвойским*
втыкают
в места атак
флажки.
Лучше
власть
добром оставь,
никуда
тебе
не деться!
Ото всех
идут
застав
к Зимнему
красногвардейцы.
Отряды рабочих,
матросов,
голи. —
дошли,
штыком домерцав,
как будто
руки
сошлись на горле,
холёном
горле
дворца.
Две тени встало.
Огромных и шатких.
Сдвинулись.
Лоб о лоб.
И двор
дворцовый
руками решетки
стиснул
торс
толп.
Качались
две
огромных тени
от ветра
и пуль скоростей, —
да пулеметы,
будто
хрустенье
ломаемых костей.
Серчают стоящие павловцы*.
«В политику…
начали…
ба́ловаться…
Куда
против нас
бочкаревским дурам*?!
Приказывали б
на штурм».
Но тень
боролась,
спутав лапы, —
и лап
никто
не разнимал и не рвал.
Не выдержав
молчания,
сдавался слабый —
уходил
от испуга,
от нерва́.
Первым,
боязнью одолен,
снялся
бабий батальон.
Ушли с батарей
к одиннадцати
михайловцы* или константиновцы*…
А Ке́ренский —
спрятался,
попробуй
вымань его!
Задумывалась
казачья башка.
И
редели
защитники Зимнего,
как зубья
у гребешка.
И долго
длилось
это молчанье,
молчанье надежд
и молчанье отчаянья.
А в Зимнем,
в мягких мебеля́х
с бронзовыми вы́крутами,
сидят
министры
в меди блях,
и пахнет
гладко выбритыми.
На них не глядят
и их не слушают —
они
у штыков в лесу.
Они
упадут
переспевшей грушею,
как только
их
потрясут.
Голос — редок.
Шепотом,
знаками.
— Ке́ренский где-то? —
— Он?
За казаками. —
И снова молча.
И только
по̀д вечер:
— Где Прокопович? —
— Нет Прокоповича*. —
А из-за Николаевского
чугунного моста́*,
как смерть,
глядит
неласковая
Аврорьих
башен
сталь*.
И вот
высоко
над воротником
поднялось
лицо Коновалова*.
Шум,
который
тек родником,
теперь
прибоем наваливал.
Кто длинный такой?..
Дотянуться смог!
По каждому
из стекол
удары палки.
Это —
из трехдюймовок
шарахнули
форты Петропавловки.
А поверху
город
как будто взорван:
бабахнула
шестидюймовка Авророва.
И вот
еще
не успела она
рассыпаться,
гулка и грозна, —
над Петропавловской
взви́лся
фонарь,
восстанья
условный знак.
— Долой!
На приступ!
Вперед!
На приступ! —
Ворва́лись.
На ковры!
Под раззолоченный кров!
Каждой лестницы
каждый выступ
брали,
перешагивая
через юнкеров.
Как будто
водою
комнаты по́лня,
текли,
сливались
над каждой потерей,
и схватки
вспыхивали
жарче полдня
за каждым диваном,
у каждой портьеры.
По этой
анфиладе,
приветствиями о́ранной
монархам,
несущим
короны-клады, —
бархатными залами,
раскатистыми коридорами
гремели,
бились
сапоги и приклады.
Какой-то
смущенный
сукин сын,
а над ним
путиловец —
нежней папаши:
«Ты,
парнишка,
выкладай
ворованные часы —
часы
теперича
наши!»
Топот рос
и тех
тринадцать*
сгреб,
забил,
зашиб,
затыркал.
Забились
под галстук —
за что им приняться? —
Как будто
топор
навис над затылком.
За двести шагов…
за тридцать…
за двадцать…
Вбегает
юнкер:
«Драться глупо!»
Тринадцать визгов:
— Сдаваться!
Сдаваться! —
А в двери —
бушлаты,
шинели,
тулупы…
И в эту
тишину
раскатившийся всласть
бас,
окрепший
над реями рея:
«Которые тут временные?
Слазь!
Кончилось ваше время».
И один
из ворвавшихся,
пенснишки тронув,
объявил,
как об чем-то простом
и несложном:
«Я,
председатель реввоенкомитета
Антонов,
Временное
правительство
объявляю низложенным»*.
А в Смольном
толпа,
растопырив груди,
покрывала
песней
фе́йерверк сведений.
Впервые
вместо:
— и это будет… —
пели:
— и это есть
наш последний… —
До рассвета
осталось
не больше аршина, —
руки
лучей
с востока взмо́лены.
Товарищ Подвойский
сел в машину,
сказал устало:
«Кончено…
в Смольный».
Умолк пулемет.
Угодил толко̀в.
Умолкнул
пуль
звенящий улей.
Горели,
как звезды,
грани штыков,
бледнели
звезды небес
в карауле.
Дул,
как всегда,
октябрь
ветра́ми.
Рельсы
по мосту вызмеив,
гонку
свою
продолжали трамы
уже —
при социализме.
В такие ночи,
в такие дни,
в часы
такой поры
на улицах
разве что
одни
поэты
и воры́.
Сумрак
на мир
океан катну́л.
Синь.
Над кострами —
бур.
Подводной
лодкой
пошел ко дну
взорванный
Петербург.
И лишь
когда
от горящих вихров
шатался
сумрак бурый,
опять вспоминалось:
с боков
и с верхов
непрерывная буря.
На воду
сумрак
похож и так —
бездонна
синяя прорва.
А тут
еще
и виденьем кита
туша
Авророва.
Огонь
пулеметный
площадь остриг.
Набережные —
пусты́.
И лишь
хорохорятся
костры
в сумерках
густых.
И здесь,
где земля
от жары вязка́,
с испугу
или со льда́,
ладони
держа
у огня в языках,
греется
солдат.
Солдату
упал
огонь на глаза,
на клок
волос
лег.
Я узнал,
удивился,
сказал:
«Здравствуйте,
Александр Блок*.
Лафа футуристам,
фрак старья
разлазится
каждым швом».
Блок посмотрел —
костры горят —
«Очень хорошо».
Кругом
тонула
Россия Блока…
Незнакомки,
дымки севера*
шли
на дно,
как идут
обломки
и жестянки
консервов.
И сразу
лицо
скупее менял,
мрачнее,
чем смерть на свадьбе:
«Пишут…
из деревни…
сожгли…
у меня…
библиоте́ку в усадьбе».
Уставился Блок —
и Блокова тень
глазеет,
на стенке привстав…
Как будто
оба
ждут по воде
шагающего Христа*.
Но Блоку
Христос
являться не стал.
У Блока
тоска у глаз.
Живые,
с песней
вместо Христа,
люди
из-за угла.
Вставайте!
Вставайте!
Вставайте!
Работники
и батраки.
Зажмите,
косарь и кователь,
винтовку
в железо руки!
Вверх —
флаг!
Рвань —
встань!
Враг —
ляг!
День —
дрянь.
За хлебом!
За миром!
За волей!
Бери
у буржуев
завод!
Бери
у помещика поле!
Братайся,
дерущийся взвод!
Сгинь —
стар.
В пух,
в прах.
Бей —
бар!
Трах!
тах!
Довольно,
довольно,
довольно
покорность
нести
на горбах.
Дрожи,
капиталова дворня!
Тряситесь,
короны,
на лбах!
Жир
ёжь
страх
плах!
Трах!
тах!
Тах!
тах!
Эта песня,
перепетая по-своему,
доходила
до глухих крестьян —
и вставали села,
содрогая воем,
по дороге
топоры крестя.
Но —
жи —
чком
на
месте чик
лю —
то —
го
по —
мещика.
Гос —
по —
дин
по —
мещичек,
со —
би —
райте
вещи-ка!
До —
шло
до поры,
вы —
хо —
ди,
босы,
вос —
три
топоры,
подымай косы.
Чем
хуже
моя Нина?!
Ба —
рыни сами.
Тащь
в хату
пианино,
граммофон с часами!
Под —
хо —
ди —
те, орлы!
Будя —
пограбили.
Встречай в колы,
провожай
в грабли!
Дело
Стеньки
с Пугачевым,
разгорайся жарчи-ка!
Все
поместья
богачевы
разметем пожарчиком.
Под —
пусть
петуха!
Подымай вилы!
Эх,
не
потухай, —
пет —
тух милый!
Черт
ему
теперь
родня!
Головы —
кочаном.
Пулеметов трескотня
сыпется с тачанок.
«Эх, яблочко,
цвета ясного.
Бей
справа
белаво,
слева краснова».
Этот вихрь,
от мысли до курка,
и постройку,
и пожара дым
прибирала
партия
к рукам,
направляла,
строила в ряды.
Холод большой.
Зима здорова́.
Но блузы
прилипли к потненьким.
Под блузой коммунисты.
Грузят дрова.
На трудовом субботнике.
Мы не уйдем,
хотя
уйти
имеем
все права.
В наши вагоны,
на нашем пути,
наши
грузим
дрова.
Можно
уйти
часа в два, —
но мы —
уйдем поздно.
Нашим товарищам
наши дрова
нужны:
товарищи мерзнут.
Работа трудна,
работа
томит.
За нее
никаких копеек.
Но мы
работаем,
будто мы
делаем
величайшую эпопею.
Мы будем работать,
все стерпя,
чтоб жизнь,
колёса дней торопя,
бежала
в железном марше
в наших вагонах,
по нашим степям,
в города
промерзшие
наши.
«Дяденька,
что вы делаете тут,
столько
больших дяде́й?»
— Что?
Социализм:
свободный труд
свободно
собравшихся людей.
Перед нашею
республикой
стоят богатые.
Но как постичь ее?
И вопросам
разнедоуменным
не́т числа:
что это
за нация такая
«социалистичья»,
и что это за
«соци —
алистическое отечество»?
«Мы
восторги ваши
понять бессильны.
Чем восторгаются?
Про что поют?
Какие такие
фрукты-апельсины
растут
в большевицком вашем
раю?
Что вы знали,
кроме хлеба и воды, —
с трудом
перебиваясь
со дня на день?
Такого отечества
такой дым
разве уж
настолько приятен?*
За что вы
идете,
если велят —
«воюй»?
Можно
быть
разорванным бо́мбищей,
можно
умереть
за землю за свою,
но как
умирать
за общую?
Приятно
русскому
с русским обняться, —
но у вас
и имя
«Россия»
утеряно.
Что это за
отечество
у забывших об нации?
Какая нация у вас?
Коминтерина?
Жена,
да квартира,
да счет текущий —
вот это —
отечество,
райские кущи.
Ради бы
вот
такого отечества
мы понимали б
и смерть
и молодечество».
Слушайте,
национальный трутень, —
день наш
тем и хорош, что труден.
Эта песня
песней будет
наших бед,
побед,
буден.
Политика —
проста.
Как воды глоток.
Понимают
ощерившие
сытую пасть,
что если
в Россиях
увязнет коготок,
всей
буржуазной птичке —
пропа́сть.
Из «сюртэ́ женера́ль»,
из «инте́ллидженс се́рвис»,
«дефензивы»
и «сигуранцы»*
выходит
разная
сволочь и стерва,
шьет
шинели
цвета серого,
бомбы
кладет
в ранцы.
Набились в трюмы,
палубы обсели
на деньги
вербовочного а́гентства.
В Новороссийск
плывут из Марселя,
из Дувра
плывут к Архангельску.
С песней,
с виски,
сыты по-свински.
Килями
вскопаны
воды холодные.
Смотрят
перископами
лодки подводные.
Плывут крейсера,
снаряды соря.
И
миноносцы
с минами носятся.
А
поверх
всех
с пушками
чудовищной длинноты
сверх —
дредноуты.
Разными
газами
воняя гадко,
тучи
пропеллерами выдрав,
с авиаматки
на авиаматку
пе —
ре —
пархивают «гидро».
Послал
капитал
капитанов ученых.
Горло
нащупали
и стискивают.
Ткнешься
в Белое,
ткнешься
в Черное,
в Каспийское,
в Балтийское, —
куда
корабль
ни тычется,
конец
катаниям.
Стоит
морей владычица,
бульдожья
Британия.
Со всех концов
блокады кольцо
и пушки
смотрят в лицо.
— Красным не нравится?!
Им
голодно̀?!
Рыбкой
наедитесь,
пойдя
на дно. —
А кому
на суше
грабить охота,
те
с кораблей
сходили пехотой.
— На море потопим,
на суше
потопаем. —
Чужими
руками
жар гребя,
дым
отечества
пускают
пострелины —
выставляют
впереди
одураченных ребят,
баронов
и князей недорасстрелянных.
Могилы копайте,
гроба копи́те —
Юденича
рати
прут
на Питер.
В обозах
е́ды вку́снятся,
консервы —
пуд.
Танков
гусеницы
на Питер
прут.
От севера
идет
адмирал Колчак,
сибирский
хлеб
сапогом толча.
Рабочим на расстрел,
поповнам на утехи,
с ним
идут
голубые чехи*.
Траншеи,
машинами выбранные,
саперами
Крым
перекопан, —
Врангель
крупнокалиберными
орудует
с Перекопа.
Любят
полковников
сантиментальные леди.
Полковники
любят
поговорить на обеде.
— Я
иду, мол,
(прихлебывает виски),
а на меня
десяток
чудовищ
большевицких.
Раз — одного,
другого —
ррраз, —
кстати,
как дэнди,
и девушку спас. —
Леди,
спросите
у мерина сивого —
он
как Мурманск
разизнасиловал.
Спросите,
как —
Двина-река,
кровью
крашенная,
трупы
вы́тая,
с кладью
страшною
шла
в Ледовитый,
Как храбрецы
расстреливали кучей
коммуниста
одного,
да и тот скручен.
Как офицера́
его
величества
бежали
от выстрелов,
берег вычистя.
Как над серыми
хатами
огненные перья
и руки
холёные
туго
у горл.
Но…
«итс э лонг уэй
ту Типерери*,
итс э лонг уэй
ту го!»
На первую
республику
рабочих и крестьян,
сверкая
выстрелами,
штыками блестя,
гнали
армии,
флоты катили
богатые мира,
и эти
и те…
Будьте вы прокляты,
прогнившие
королевства и демократии,
со своими
подмоченными