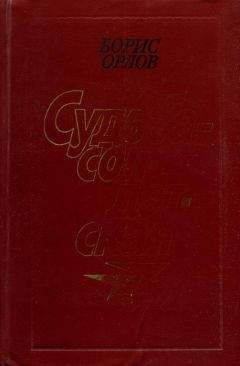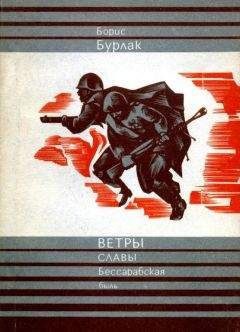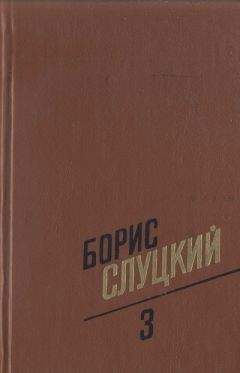Борис Слуцкий - Записки о войне. Стихотворения и баллады
Белград, Югославия, Балканы приютили наиболее южную группу белых — врангелевских офицеров, киевских и одесских помещиков с семьями, автокефальных батюшек. Удивленные легковесностью Балканской Европы, они подолгу сохраняли русское имперское подданство, либо так называемые нансеновские паспорта[179], — беженские аттестации, дававшие гражданские права и освобождавшие от политических. Такие же паспорта давали турецким армянам[180]. Возможно, они (как и русское подданство) окажутся еще роковыми для их обладателей.
Богатенькие и знатные вскоре уехали в Париж. Осталась армейская голь, положенный процент епископов, повышенный процент украинцев.
Женщины белогвардейцев были исполнены грустного обаяния. В полудеревенском Белграде, тогда еще скорее сербском, чем югославском, их узнавали по походке, по повороту головы, по запаху — тонкому, парижскому, незабываемому. В 1944 году, когда в Белград вошли сталинградцы, их женщин также узнавали по походке, по скрипу и грохоту кирзовых сапог. Сотни эмигранток вышли замуж за сербов, ассимилировались, вырастили расу красивых и сильных ребят. Другие жались друг к другу, основывали «русские матицы» и сокольские клубы[181], трудно привыкали к физическому труду, к чужому языку.
В Болгарии отношение к белогвардейцам варьировалось у разных правительств (разные степени равнодушия). Сотни гвардейских офицеров перекочевали из голодных трущоб Константинополя в шахты Перника, штрейкбрехерствовали, конкурировали с болгарскими рудокопами, потом пролетаризировались и смирились.
В Югославии Карагеоргиевичи[182] крепко помнили 1914-й год. Офицеры принимались в армию. Охотно брали на службу чиновников, инженеров, учителей. Молодые ушли в университеты, образовали кадры отличных высококультурных специалистов. Киевская, Харьковская, Одесская профессура облагородила университеты Белграда и Софии. В Болгарии их считали варягами, терпели, пока не выросли свои кадры. В Белграде они крепко вросли в академический быт.
Балканская Европа удивила нас необычными названиями улиц, проспектами Пуанкаре[183] и Вильсона[184], памятником Франше д'Эспере[185] (в октябре партизаны намалевали на генеральском пьедестале четыре трафаретные красные звезды). Пока был среди этих проспектов не только генерал Черняев[186], но и Николай II, белогвардейцы крепко ощущали свою автономию. Их русская православная церковь была автономна внутри сербской православной. Им дали гимназию в Белграде, кадетский корпус в Белой Церкви. Был дом для престарелых — немцы четыре года не кормили их. Наши не тронули, прошли мимо самых ненавидящих из своих врагов. Был огромный Русский дом в Белграде. Было сознание своего островного положения, зиждившееся сначала на культурном превосходстве, потом на народной нелюбви. Из Парижа доходили вести о партиях и течениях, о сменовеховцах[187] и национал-большевиках. Здесь все сосредотачивав лось вокруг способов возвращения. Было два пути: с немцами и их предшественниками либо через консульства (ССП). Позже второй путь был окрашен кровью Союза Советских Патриотов. И вот в Белграде оказалось сто двадцать бургомистров, сто двадцать героев.
Когда началась война, белые резко противопоставили себя сербам, навсегда устранив возможность повторения в Югославии любой антисоветской эмиграции. Не случайно, именно здесь формировался Русский охранный корпус из ротмистров всей Европы, с полным окладом и офицерской уважительностью в обращении, корпус, из которого партизаны не брали пленных — расстреливали всех поголовно, как банатских эсэсовцев. Не случайно именно здешние юнцы из кадетского корпуса лезли на наши пулеметы на дунайских переправах.
Генерал Краснов[188] писал об одном из своих героев, что он говорил настолько по-русски, что всегда можно было разобрать, где «е», а где «ять». Патриотизм старого поколения эмиграции носил именно ятевидный характер. Все эмигранты, оставшиеся в Белграде, от души умилялись Красной Армией. Но их чувства сосредотачивались на погонах, на орденах Суворова и Кутузова, на заветном слове «подполковник». В общем, это был немецкий вариант возвращения на родину — с заветным словом «статский советник».
Это была не нация и не класс — существовала бездна между пролетаризированными врангелевцами в Пернике и двором вдовствующей императрицы в Копенгагене. Это было сословие, объединяемое, главным образом, сословными предрассудками. Мятеж ССП напоминал внутрисословный бунт декабристов против Простаковых[189].
ССП не хотел представительствовать эмиграцию. Он резко отмежевывался от нее, противопоставлял себя ей, вплоть до организации своей контрразведки, работавшей специально против белогвардейцев. Вплоть до того, что 6 ноября на предпраздничном собрании решили выставить «своих» автоматчиков у входа в Русский дом и не пропускать туда ни одного эмигранта.
В Разграде я разговаривал со стариком — врангелевцем, уважаемым во всей округе детским врачом. Удостоверившись в моей интеллигентности, он спросил: «Что вы будете с нами делать?»
Этот вопрос белогвардейцы задавали очень часто. В те дни им отчетливо вспоминались все их грехи перед российскими рабочими и крестьянами — от казни Стеньки Разина до Русского охранного корпуса. Тряслись ограничившиеся нансеновскими пасами (Паспортами. — Ред.). Дрожали гордецы, сохранившие императорские документы. Счастливые обладатели болгарского подданства чувствовали себя очень неспокойно — слишком несуверенно капитулировала муравиевская[190] Болгария, слишком грозно шумели танковые корпуса под их занавешенными окнами.
Рядом с доктором сидела его жена. Внимательно слушала, иногда потряхивала торжественными, царственно рыжими волосами. Внезапно, после сотни вопросов о Советской России, она спросила: «А правда ли, что у вас всем заправляют… евреи?» И смотрела мне в глаза злобно, чуть насмешливо.
Я вежливо ответил: «Ваши сведения, мадам, безусловно преувеличены».
Двадцать пять лет эмиграция дышала преувеличенными сведениями. В этих условиях противоположное течение казалось невозможным. Тем не менее оно возникло. Были старики со школьным представлением о патриотизме, исключавшим сговор с интервентами. Были молодые инженеры, твердо верившие в индустриализацию СССР. Были инородцы — евреи, кавказцы. Были девушки из старых семей. Были врангелевские офицеры, предпочитавшие петроградские академии всем иным. К партизанам ушли Махин[191], знаменитый Саблин[192], левый эсер времен московского восстания, начальник ВОСО Тито. Среди рядовых партизан был граф Ефимовский. В каждой бригаде был свой белый — обычно в штабе, а не в русской роте — культурнейший, проверенный офицер.
Ощущался политический раскол: «Отцы и дети». Впрочем, процент детей был не свыше того, что у нигилистов.
В 1941 году в Белграде на правах секции одного из подпольных райкомов компартии организовался Союз Советских Патриотов. Его возглавил доктор Лебедев — милый человек, твердый руководитель. В Центральном Комитете Союза были профессор Алексеев Н. Н.[193], юрист, автор «Истории русского бесправия», старик со счастливыми и молодыми глазами, еврей Тумим, литературный критик, шеф контрразведки.
Подробной картины деятельности ССП у меня нет. Кажется, они принимали участие в переводе и печатании шестисот экземпляров «Краткого курса истории ВКП(б)». Перепрятывали бежавших из лагерей красноармейцев, доставляли их в партизанские отряды. Кажется, собирали деньги, медикаменты, литературу, табак, печатали листовки. Вся работа шла под контролем сербов, по их заданиям.
ССП резко отделял себя от эмигрантской массы. Его члены считали себя советскими гражданами. Свою работу — заслуживанием паспортов. ССП противопоставлялся, до известной степени, и партизанам. На Русском доме написали: «Собственность СССР». На демонстрацию хотели выйти своей колонной под советскими государственными флагами. Впрочем, когда стали собирать заявки на приглашение на вечер, в списках знакомых оказалась вся партийная и военная знать сербского Белграда.
Быть может, интереснейшей фигурой ССП был внучатый племянник фельдмаршала граф Илья Николаевич Кутузов[194]. Ему было сорок лет. Из России он выехал юношей, с гувернером. Учился в Сорбонне. Знал шесть языков. Доцент французской филологии, читал ее в Белграде. Написал несколько книг интересных стихов. В Белграде возглавлял кружок поэтов, который считался одним из двух центров молодой поэтической эмиграции. Второй — в Париже. Ладинский[195], Довид Кнут[196]. Кутузов очень обаятелен старомодным, устоявшимся обаянием, чем напоминает Кульчицкого[197]. В 30-х писал рецензии с налетом наивной антисоветчины, бытовой для эмиграции. Он говорил мне: «Теперь я все понял. Раньше мы думали: „ЭНКАВЕДЕ!“ А сейчас: „Пойду работать для НКВД“. Современную русскую поэзию знал плохо, о Пастернаке и Сельвинском[198] помнил, что у них талантливые рифмы, но веровал, что в Москве займет свое место.