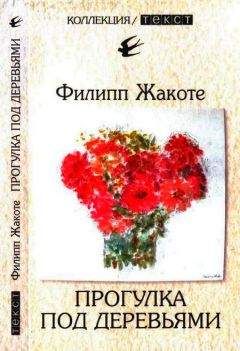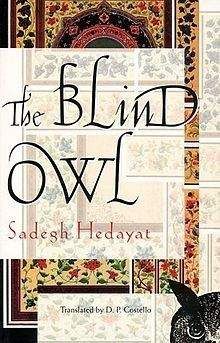Наум Коржавин - На скосе века
Новоселье
1В снегу деревня. Холм в снегу.
Дворы разбросаны по склону…
Вот что за окнами балкона,
Проснувшись,
видеть я могу.
Как будто это на холсте!
Но это всё на самом деле.
Хоть здесь Москва, и я — в постели,
В своей квартире, как в мечте.
Давно мне грезился покой.
Но всё же видеть это — странно,
Хоть в окнах комнаты другой
Одни коробки, плиты, краны,
Индустриальность, кутерьма.
Чертёж от края и до края…
А здесь глубинка; тишь сплошная,
Как в давней сказке. — Русь… Зима.
Вся жизнь моя была хмельна
Борьбой с устойчивостью древней,
И нате ж — рад, что здесь деревня,
Что мне в окно она видна.
И рад, что снег на крышах бел,
Что всё просторно, цельно, живо…
Как будто расчертить красиво
Всю землю — я не сам хотел.
К чему раскаянье ума?
Чертёж — разумная идея.
Я знаю: строить с ним — быстрее,
А всем, как мне, нужны дома.
Но вот смотрю на холм в снегу,
Забыв о пользе, как о прозе.
И с тем, что здесь пройдёт бульдозер,
Стыдясь — смириться не могу.
Тот свет иль этот? Рай иль ад?
Нет, бледный призрак процветанья.
Квартиры, сложенные в зданья.
Широких окон тесный ряд.
То ль чистый план, то ль чистый бред.
Тут правит странный темперамент.
Стоят вразброс под номерами
Дома, — дворов и улиц нет.
Здесь комбинат, чей профиль — быт,
Где на заправке дух и тело.
И мнится: мы на свет для дела
Явились — жизнь свою отбыть.
К чему тут шум дворов больших?
О прошлом память? — с ней расстанься!
Дверь из квартиры — дверь в пространство,
В огромный мир дворов чужих.
И ты затерян — вот беда.
Но кто ты есть, чтоб к небу рваться?
Здесь правит равенство без братства.
На страже зависть и вражда.
А впрочем — чушь… Слова и дым.
Сам знаю: счастье — зданья эти.
Одно вот страшно мне: что дети
Мир видят с первых дней — таким.
* * *
Хоть вы космонавты — любимчики вы.
А мне из-за вас не сносить головы.
Мне кости сломает потом иль сейчас
Фабричный конвейер по выпуску вас.
Все карты нам спутал смеющийся чёрт.
Стал спорт — как наука. Наука — как спорт.
И мир превратился в сплошной стадион.
С того из-за вас и безумствует он.
Устал этот мир поклоняться ему.
Стандартная храбрость приятна ему.
И думать не надо, и всё же — держись:
Почти впечатленье и вроде бы — жизнь.
Дурак и при технике тот же дурак.
Придумать — он может, подумать — никак.
И главным конструктором сделался он,
И мир превратился в сплошной стадион.
Великое дело, высокая власть.
Сливаются в подвиге разум и страсть.
Взлетай над планетой! Кружи и верши.
Но разум — без мудрости, страсть — без души.
Да, трудно проделать ваш доблестный путь —
Взлетев на орбиту, с орбиты — лизнуть.
И трудно шесть суток над миром летать,
С трудом приземлиться и кукольным стать.
Но просто работать во славу конца —
Бессмысленной славой тревожить сердца.
Нет, я не хочу быть героем, как вы.
Я лучше, как я, не сношу головы.
Апокалипсис
Мы испытали всё на свете.
Но есть у нас теперь квартиры —
Как в светлый сон, мы входим в них.
А в Праге, в танках, наши дети…
Но нам плевать на ужас мира —
Пьём в «Гастрономах» на троих.
Мы так давно привыкли к аду,
Что нет у нас ни капли грусти —
Нам даже льстит, что мы страшны.
К тому, что стало нам не надо,
Других мы силой не подпустим, —
Мы отродясь — оскорблены.
Судьба считает наши вины,
И всем понятно: что-то будет —
Любой бы каялся сейчас…
Но мы — дорвавшиеся свиньи,
Изголодавшиеся люди,
И нам не внятен Божий глас.
Друзьям
Я позабыл, как держат ручку пальцы,
Как ищут слово, суть открыть хотят…
Я в партизаны странные подался —
Стрекочет мой язык, как автомат.
Пальба по злу… Причин на это много.
Всё на кону. Бог… ремесло… судьба…
Но за пальбой я сам забыл —
и Бога,
И ремесло, и — отчего пальба.
И всё забыв, — сознаться в этом трушу.
Веду огонь — как верю в торжество.
А тот огонь мою сжигает душу,
И всем смешно, что я веду его.
Я всё равно не верю, что попался…
Я только вспоминаю тяжело, —
Как ищут суть, как держат ручку пальцы
И как нас учит смыслу — ремесло.
* * *
Что со мною сталось?
Сердце спит весь день.
То ли это старость,
То ли просто лень.
То ли так, томленье:
Гаснет прежний пыл,
А бороться с ленью
Нет причин и сил.
То ли сплю, и это
Только снится мне,
И покорно в Лету
Я плыву во сне.
* * *
От созидательных идей,
Упрямо требующих крови,
От разрушительных страстей,
Лежащих тайно в их основе,
От звёзд, бунтующих нам кровь,
Мысль облучающих незримо, —
Чтоб жажде вытоптать любовь
Стать от любви неотличимой,
От правд, затмивших правду дней,
От лжи, что станет им итогом,
Одно спасенье — стать умней,
Сознаться в слабости своей
И больше зря не спорить с Богом.
Двадцатые годы
Удручённый ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде Царь Небесный
Исходил, благословляя.
Ф. И. ТютчевКрепли музы, прозревая,
Что особой нет беды,
Если рядом убивают
Ради Веры и Мечты.
Взлёт в надеждах и в законах:
«Совесть — матерь всех оков…»
И романтик
в эшелонах
Вёз на север мужиков.
Вёз, подтянутый и строгий,
Презирая гнёт земли…
А чуть позже той дорогой
Самого его везли.
Но запутавшись в причинах,
Вдохновляясь и юля,
Провожать в тайгу невинных
Притерпелась вся земля.
Чьё-то горе, чья-то вера —
Смена лиц как смутный сон:
Те — дворяне, те — эсеры.
Те — попы… А это — он.
И знакомые пейзажи,
Уплывая в смутный дым,
Вслед ему глядели так же,
Как недавно вслед другим.
Равнодушно… То ль с испуга,
То ль, как прежде, веря в свет…
До сих пор мы так друг друга
Всё везём. И смотрим вслед.
Может, правда, с ношей крестной,
Веря в святость наших сил,
Эту землю Царь Небесный,
Исходив, благословил.
Но тогда, ревнуя к Славе,
За усмешкой скрыв оскал,
Тем путём на тройке дьявол
По следам Его скакал.
Последний язычник
Письмо из VI века в XX
Гордость,
мысль,
красота —
все об этом давно отгрустили.
Все креститься привыкли,
всем истина стала ясна…
Я последний язычник
среди христиан Византии.
Я один не привык…
Свою чашу я выпью до дна.
Я для вас ретроград —
то ль душитель рабов и народа,
То ли в шкуры одетый
дикарь с придунайских равнин…
Чушь!
Рабов не душил я —
от них защищал я свободу.
И не с ними —
со мной
гордость Рима и мудрость Афин.
Но подчищены книги…
И вряд ли уже вам удастся
Уяснить, как мы гибли,
притворства и лжи не терпя,
Чем гордились отцы,
как стыдились, что есть ещё рабство.
Как мой прадед сенатор
скрывал христиан у себя…
А они пожалеют меня?
Подтолкнут ещё малость:
Что жалеть,
если смерть —
не конец, а начало судьбы.
Власть всеобщей любви
напрочь вывела всякую жалость,
А рабы нынче — все.
Только власти достигли рабы.
В рабстве — равенство их:
все — рабы, и никто не в обиде.
Всем
подчищенных истин
доступна равно
простота
Миром правит Любовь, —
и живут для Любви —
ненавидя.
Коль Христос есть Любовь,
каждый час распиная
Христа.
Нет, отнюдь не из тех я,
кто гнал их к арене и плахе,
Кто ревел на трибунах,
у низменной страсти в плену.
Все такие давно
поступили в попы и монахи.
И меня же с амвонов
поносят за эту вину.
Но в ответ я молчу.
Всё равно мы над бездной повисли.
Всё равно мне конец,
всё равно я пощады не жду.
Хоть, последний язычник,
смущаюсь я гордою мыслью,
Что я ближе монахов
к их вечной любви и Христу.
Только я — не они, —
сам себя не предам никогда я,
И пускай я погибну,
но я не завидую им:
То, что вижу я, — вижу.
И то, что я знаю, — я знаю.
Я последний язычник.
Такой, как Афины и Рим.
Вижу ночь пред собой.
А для всех — ещё раннее утро.
Но века — это миг.
Я провижу дороги судьбы:
Всё они превзойдут.
Всё в них будет: и жалость, и мудрость…
Но тогда,
как меня,
их потопчут другие рабы.
За чужие грехи
и чужое отсутствие меры,
Всё опять низводя до себя,
дух свободы кляня:
Против старой Любви,
ради новой немыслимой Веры,
Ради нового рабства…
Тогда вы поймёте меня.
Как хотелось мне жить,
хоть о жизни давно отгрустили,
Как я смысла искал,
как я верил в людей до поры…
Я последний язычник
среди христиан Византии.
Я отнюдь не последний,
кто видит,
как гибнут миры.
* * *