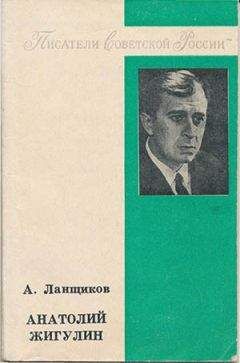Анатолий Бергер - Продрогшие созвездия
Работы грузчика я всё-таки побаивался. Как-никак спина больная, а тут не шутки шутить надо. Но была не была. Работали по двое. Со мной на пару некий Коля — небольшой, ладный, светлый, с быстрым говорком, только бы кудри ему есенинские, и не удивишься, если польётся вдруг из уст «Отговорила роща золотая». Но из его обветренных губ выскакивал чаще всего скороговорочный частый мат. Двое других были народ постарше. Один, Митя, мужик лет 50-ти, коренастый, плотный, хитрован, выпить не дурак, про таких в лагерях говорят: «рыбина та ещё, гнилая». У него заведовала продуктовым магазином жена, мы этот магазин обслуживали. Жена Мити, бывалая баба, звала его за глаза живодристиком, другие бабы называли Митю не иначе как Дуськин — по имени жены. Другой — татарин, забыл имя его, а кличка была Яга-ж, потому что он без конца приговаривал «и Яга ж, Яга ж». Он был жилистый, тёмный, длинный, длиннорукий, глаза жёстко и чёрно блестели. Такая была наша команда — сельповских грузчиков.
С утра приходили мы в управление райпо, ждали машин. Потом начиналась езда — кто куда. Выгоднее всего было возить вино и водку: 100 ящиков погрузить-разгрузить — 1 р. 60 коп. на брата. Если пустые бутылки — всё равно. Ящик с водкой весил 20 кг. А за 100 других ящиков — 1 р. 20 коп., хотя грузы были и тяжелее, и неудобнее. Всего дешевле оценивались сахар и мука — по тоннажу, а мешок сахару тянул на 50 кг. Мучной же — на все 70, а то и 80. И после мучных ездок приходил я домой весь белый, сыпкий, и жена долго выбивала мою спецодежду на заборе, но всё равно въедливая мука гнездилась в щёлках и отворотах куртки и штанов. Всего же хуже была соль, она лежала горами, грузить надо было лопатой в сапогах и брезентухе, иначе разъедало ноги и тело. Да всё равно разъедало.
Так мы и ездили по Курагино, мостились в кузове среди мешков и ящиков. Подъезжали к магазину, выкликали заведующую. Машина задом пятилась к дверям магазина, откидывали борт, и начиналась таска. Если с заднего хода магазина — дело шло быстрей, а если через входную дверь, мешали покупатели — сновали туда-сюда, совались к нам — чего хорошего-то нет ли? А хорошее редко бывало. Мы сами почти не видели.
Мои напарники норовили при каждом удобном случае выпить. Что — водку или вино — им было всё равно. Они и водку звали вином. Я от этих возлияний уклонялся. У меня пытались они брать в долг, и приходилось давать. Иной раз — не отдавали. Пару раз я принужден был попивать с ними, чтобы уж совсем не стать особняком. Так было, помню, когда возили муку, и как ни странно, волохаться с ней под хмельком было намного веселей. Подъезжала машина к складу, бросали на борт доску и по ней взбегали с дощатого ходуном ходящего пола на кузов. Двое грузчиков стояли на кладке (т. е. клали мешки нам на спину), мы — остальные — бегали с мешками по доске, сбрасывали мешки, дымящиеся белёсым взвивом мучным, на кузов и обратно бежали пустые, подставляли готовую спину под жёстко-серого плотного широкого этакого поросёнка, прихватив его за уши и клонясь под ним, бежали на кузов снова. Нагрузив мешков 60, отъезжали и гнали к магазину. Там с кузова один подавал, прямо на спину клал мешок, а другой — чаще всего я — шустро семенил в магазин и сбрасывал мешок, с глухим шлёпом падающий на пол, а позже на другие мешки — уже почти бесшумно, только мучная пыль вздымалась и оседала сразу. В горле першило, в глаза лез мучной мутный пот, но вино работало в жилах, и всё это нелёгкое дело даже ещё и бодрило. Да и сама мужская могута этого труда веселила душу, и усталость долго не брала. Так бывало с мукой.
С вином и водкой было полегче, взял ящик за края и пошёл ставить один на другой, штабель по 5–6 рядов, выше себя вознеся и плотно ставя. Только бутылки позванивали да поигрывали. Веселей всего в работе была выгрузка арбузов. Приходило их много из Средней Азии, и мы грузили прямо из вагонов. Наедались до отвалу, это не возбранялось. Выбирали покруче, поярче, разбивали об пол и сладкую эту весёлую алость брызжущую, развалистую на большие неровные ломти, поедали, вгрызаясь, впивались по уши, только семечки скользко прыгали из губ и мокрой коричневостью поблёскивали кругом. А пёстрые звонкие кавуны навалом громоздились в углу вагона. Мы их конвейером перебрасывали по-вратарски друг другу, а в магазин приехав, по кузову катили, когда верх уже убывал. Ухитрялись себе заначивать и взвешенные с машины. Делалось это так. Сначала взвешивалась машина, а кто-нибудь из грузчиков поменьше ростом прятался в кузове под брезентом. Брезент, как барханы, лежит, его не проверяли. Так килограммов на семьдесят мы надували нашу великую сверхдержаву, и получалось арбузов 5–6 на выбор. Можно было и жену побаловать, и тётю Надю. Такая была грузчикова жизнь сибирская, и продолжалась она полгода.
За это время грузчики иногда менялись, но бессменно трудились Митя и Яга-ж. Постепенно я узнавал о них побольше. Митя попал в грузчики из шоферов. Как и Коля. Водка подвела. А Яга-ж сидел в бытовых лагерях лет 6 по хулиганке. Сиделось ему, видно, не очень муторно, потому что вспоминать любил. Выходило, что он там жил королём, и вся зона только около него и крутилась. И всего было вдоволь. Конечно, он привирал, как любят бытовики, но часть правды была — в этих лагерях на общем режиме уголовнику чем не житьё — каждые два месяца посылка и свидание, срок — половинят, амнистия не обходит. Оттого Яга-ж и захлёбывался рассказами, как в лагерях пил да ел, да жил в своей каморке и горя не знал. Чёрные ордынские глаза поблёскивали, слова торопились, вылетая из прокуренного узкого рта. Ещё и руками помогал. А мы молча слушали — что ж было говорить? Кому тюрьма, а кому — мать родна. Обо мне и Митя, и Яга-ж, и Коля всё знали. Но умели не выказать своего отношения к моей судьбе.
Коля только однажды пьяный стал говорить мне: «Мне Алексей Фёдорович с первых дней сказал: что ты скажешь про политику — всё, мол, передавай. А я говорю ему — я не сука. Парень работает, жена к нему приехала, не пьёт. Так и сказал ему — я, Алексей Фёдорович, не сука. Не был сукой и не буду. А вот Митьку опасайся, он и в милиции работал, он себе на уме». Я Колю словом похвалил, а в душе до конца не поверил ему, потому что знал зэковскую манеру валить на другого свой грех. А психология человеческая везде одна. Впрочем, Митя и не вызывал особого доверия. А вот директор сельпо Алексей Фёдорович мне нравился — по-настоящему умный человек, презирающий бестолковщину и болтовню. И всё-таки туда же, тем же миром мазан. Вот уж воистину — круговая порука подлости. Удивляться-то нечему — а жаль. Да что говорить о службе? К тёте Наде и то приезжал на мотоцикле ведающий мной и Гришей инспектор, она мне не говорила, но однажды он случайно застал меня в избе и забегали его глазки и язык примяк, видно было, не по себе человеку. «Вот заехал поглядеть, как устроились». А тётя Надя быстренько отлучилась в погреб или на огород — как раз нужда пришла. Я стал, по-лагерному говоря, на Табунова переть — работа тяжёлая, а платят мало, с высшим образованием — грузчик. Жена ещё крепче меня на него наседала, так он только крутил головой туда-сюда и всё порывался встать со стула, словно жгло. Но боевая моя Лена, знай, наступала. «Что же это, он затем высшее образование получал, чтобы мешки таскать? Где, в каком кодексе это сказано? В лагере и то работу подбирают, а вам тут наплевать, пусть человек мучается? У меня совсем работы нет в вашем Курагине, так на 100 рублей нам, значит, и жить?» Еле выскочил из избы Табунов, только слышно было, как рванул с места мотоцикл, грохоча. А тётя Надя скоро пришла с огорода — «Вот делать им нечего, здоровые мужики, раскатываются по деревне». Что он у неё спрашивал в прошлые разы, она, конечно, нам не сказала. Только однажды, как-то после нескольких стопок, вдруг повело её — оборотясь на икону Богородицы, перекрестилась круто и, обернувшись к нам, низко клоня над столом лицо, красное от водки: «Вот дети, как перед Богом, так перед вами — ничего я ему не говорила и не ходила к нему. А как пришёл ко мне Толька квартиру снимать, помнишь, я и думаю — отчего не сдать, и немка эта Фрида просит — я хоть её не знаю, а на улице немцев у нас много живёт и все её родня. А после мне старухи говорят — ой, Надя, он ведь ссыльный. Он тебя ночью зарежет и уйдёт, он ведь из тюрьмы. Пошла я к Клане (соседка напротив), говорю ей, — Кланя, я ссыльного пустила, он из тюрьмы. А Кланя мне: «Молчи, Надя, молчи». Вот как было, дети». — «Но видите, тётя Надя, обошлось, не зарезал я Вас. Тюрьма тюрьме рознь, не только воров и грабителей сажают». — «Да вижу, вижу. Вы уж на меня, дети, не сердитесь. Зима без морозов не бывает». Но я знал, что и тёте Наде верить очень-то нельзя, хоть за стопкой не было её добрее и роднее. Но сама ведь говаривала она: «Глаз опризорчив, язык оговорчив». Пословицу не зря народ сотворил, она всё про народ знает на веки веков.
После ухода Коли моим напарником стал парнишка лет двадцати двух, типичный деревенский увалень, круглолицый, конопатый, косолапый, с глазами медового цвета, с льняными спутанными волосами. Звали его Ваня, и имя ему, как нельзя более, подходило. Работать с ним было худо, он оказался бестолков и упрям, неповоротлив и не к месту говорлив. Что меня особенно удивило — его безграмотность, он несколько раз просил меня на почте за него написать адрес и т. п. «Как же ты сам не можешь, ты ведь в школе учился». — «Да мы с дедом на двоих букварь искурили», — ответил мне он, и хотя эта побаска известная, но с ним, похоже, дело так и обстояло. Был он, впрочем, и забавен иногда, а чаще противен самодовольной благоглупостью. Вообще по селу его считали маленько придурковатым и относились с насмешечкой, а порою и издёвкой. Вопросы его ко мне всегда были неожиданны. «Ты что же, как родился в Ленинграде, так и стал в нём жить?» — помню, спросил он меня. И удивился утвердительному ответу. «Там ведь шумно, народу больно много». — «Да, нет, привык уж», — говорил я, сам в этот момент удивляясь, как можно жить в большом, шумном, людном городе. Ваня недавно женился, жена его, бабёнка постарше его, некрасивая и насупленная, несколько раз попадалась мне в Курагине. Появился у него и ребёнок очень скоро после свадьбы, которая, по словам Вани, проходила в долгом и тяжёлом пьянстве, так что жену он нашёл с трудом где-то в чулане только на вторые сутки. Но он-то об этом рассказывал с гордостью, сколько, мол, выпил и как был пьян, и как шатало его от забора к забору, а гости вповалку валялись по избе и на дворе. Любил рассказывать, как лазит, по его слову, на жену — не без этого, — говаривал он, ощеривая широкий рот, морща утиный веснущатый нос и хитро щуря глаза. — «Как же, слазишь раз — другой, не без этого». Эти подробности он сообщал вообще, безотносительно к предмету разговора. Дразнили его, что ребёнок не от него совсем, и даже в глаза говорила, помню, продавщица ему — навещает ли, мол, сынка отец? Ваня на эти задирки свой широкий рот ощеривал уже зло, глазами крысился и глухо бормотал: «Не вам забота» и что-то ещё буркливое под нос. Было в нём уже и стариковского много — байки деревенские повторял он с той же интонацией, что бабки курагинские, и головой кивал и покряхтывал убедительно, и даже в присказке о жене слышалась какая-то замшелость — вот и я, мол, держусь ещё — будто давно пора уже на покой.
![Анатолий Бергер - Времён крутая соль [сборник]](/uploads/posts/books/258678/258678.jpg)
![Анатолий Бергер - Состав преступления [сборник]](/uploads/posts/books/257609/257609.jpg)
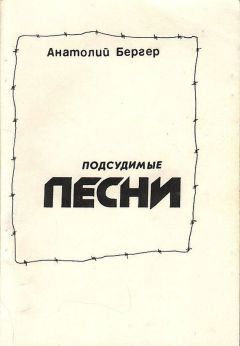
![Анатолий Бергер - Горесть неизреченная [сборник]](/uploads/posts/books/40475/40475.jpg)