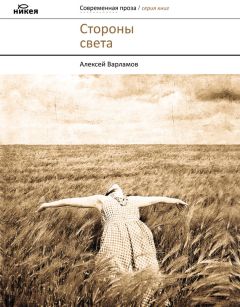Юрий Левитанский - Черно-белое кино (сборник)
Полночное окно
В чужом окне чужая женщина не спит.
Чужая женщина в чужом окне гадает.
Какая карта ей сегодня выпадает?
Пошли ей, господи, четверку королей!
Король бубей, король трефей, король червей,
король пиковый, полуночная морока.
Все карты спутаны – ах, поздняя дорога,
пустые хлопоты, случайный интерес.
Чужая женщина, полночное окно.
Средина августа, пустынное предместье.
Предвестье осени, внезапное известье
о приближенье первых чисел сентября.
Чужая женщина, случайный интерес.
Все карты спутаны, последний лепет лета.
Средина августа, две дамы, два валета,
предвестье осени, девятка и король.
Предвестье осени, преддверье сентября.
Невнятный шелест, бормотанье, лепетанье.
Дождя и тополя полночное свиданье,
листвы и капель полусонный разговор.
Чужая женщина, полночное окно.
Средина августа, живу в казенном доме.
Преддверье осени, и ночь на переломе,
и масть бубновая скользит по тополям.
Чужая женщина, последний свет в окне.
И тополя меняют масть, и дом казенный
спит, как невинно осужденный и казненный
за чьи – неведомо, но тяжкие грехи.
«Сам платил за себя, сам платил, никого не виня…»
Сам платил за себя, сам платил, никого не виня.
Никогда не любил, чтобы кто-то платил за меня.
Как же так получилось, что я оказался в долгу —
все плачу и плачу – расплатиться никак не могу!
С покаянной душой в твои двери стократно стучусь.
Я еще расплачусь, говорю, я еще расплачусь.
Я за все заплачу, я за все расплатиться хочу —
будто легче тебе оттого, что и я заплачу!
Так живу день за днем в заколдованном этом кругу.
Все плачу и плачу – расплатиться никак не могу.
Все плачу и плачу – остаюсь в неоплатном долгу.
До последнего дня расплатиться уже не смогу.
«Говорили – ладно, потерпи…»
Говорили – ладно, потерпи,
время – оно быстро пролетит.
Пролетело.
Говорили – ничего, пройдет,
станет понемногу заживать.
Заживало.
Станет понемногу заживать,
буйною травою зарастать.
Зарастало.
Время лучше всяких лекарей,
время твою душу исцелит.
Исцелило.
Ну и ладно, вот и хорошо,
смотришь – и забылось наконец.
Не забылось.
В памяти осталось – просто в щель,
как зверек, забилось.
«Снег под утро реже, реже…»
Снег под утро реже, реже,
и как промельк в облаках —
белый дом на побережье,
возле моря в двух шагах.
В этом доме белом-белом,
где шаги приглушены,
где иных не слышно звуков,
кроме звука тишины,
в этом доме тихом-тихом,
где покой и полумрак,
там свои бушуют бури —
не подумаешь никак.
Там гремят такие грозы —
просто вам их не слыхать.
Там такие вихри кружат —
просто вам их не видать.
Там гудят такие шквалы,
дуют ветры всех широт.
Там и взрывы, и обвалы
вулканических пород…
В этом доме, таком тихом,
я зимой однажды жил.
Тихо музыка играла,
снег за окнами кружил.
И никто б не мог подумать,
что за тою вон стеной
день и ночь бушует лава,
ходит почва подо мной.
И никто б не мог представить,
что на том вон этаже
подо мною твердь земная
разверзается уже.
Грозно пламя бушевало,
грохотал девятый вал —
сам не помню, как, бывало,
я на берег выплывал…
Зимний берег побелевший,
зимних сосен бахрома.
Белый дом на побережье,
дом как дом, как все дома.
Гаснет в окнах луч прощальный,
свет зажегся там и тут.
Ходит шторм девятибалльный.
Рододендроны цветут.
«Промчался миг, а может, век…»
Промчался миг, а может, век,
а может, дни, а может, годы —
так медленно рождался снег
из этой ветреной погоды.
Все моросило, и текло,
и капало, и то и дело
тряслось оконное стекло,
свистело что-то и гудело.
Когда метель пошла кружить,
никто из нас не мог решиться
хотя бы и предположить,
чем это действо завершится.
Простор дымился и дымил,
и мы растерянно глядели,
как он творился, этот мир,
из солнца, ветра и метели.
Но поутру однажды вдруг
все кончилось, и тихо стало,
и все в округе и вокруг
заискрилось и заблистало.
И получился день такой,
как будто этот день творенья
и был той самою строкой
известного стихотворенья.
И солнце било через край,
и белоснежны были кущи,
и это был небесный рай,
где дни, увы, быстротекущи.
И я в конце концов решил,
что ждал развязки не напрасно
что тот, кто это совершил,
с задачей справился прекрасно
Но ведать я не мог того
(а угадать я не старался),
что тайный замысел его
гораздо дальше простирался.
И, тихо выйдя за предел
сего пленительного рая,
он на меня уже глядел,
довольно руки потирая.
Он отходил все дальше в тень.
Он покидал свои владенья.
И оставался только день
до моего грехопаденья.
«Часы и телефон…»
Часы и телефон
в их сути сокровенной —
и фабула, и фон
для драмы современной.
Ристалище. Дуэль.
Две партии в дуэте.
Безмолвный диалог.
Неравный поединок.
А телефон молчит —
что делать, извините!
А маятник стучит —
ну что ж вы не звоните!
Звучанье тишины,
воистину зловещей
для третьего лица,
сидящего напротив.
А телефон молчит —
весь день одно и то же.
А маятник стучит —
ну что же вы, ну что же!
И вдруг звонок, и вдруг
такой удар по цели —
как пистолета звук,
как выстрел на дуэли.
И тот, кто был убит,
теперь он оживает.
Его еще знобит,
но рана заживает.
Его еще трясет,
язык его немеет,
но все это уже
значенья не имеет.
Теперь он будет жить.
Он к трубке тянет руку
как тонущий пловец
к спасательному кругу.
Он все забыл, чудак,
твердит одно и то же:
– Ну, что ж вы меня так!
Ну что же вы, ну что же!
«Весеннего леса каприччо…»
Весеннего леса каприччо,
капризы весеннего сна,
и ночь за окошком, как притча,
чья тайная суть неясна.
Ax, странная эта задача,
где что-то скрывается под
из области детского плача,
из области женских забот,
где смутно мерещится что-то,
страшащее нас неспроста,
из области устного счета
хотя бы сначала до ста,
из области школьной цифири,
что вскоре нам душу проест,
и музыки, скрытой в эфире
и в мире, лежащем окрест.
Ах, лучше давайте забудем,
как тягостна та благодать.
Давайте сегодня не будем
на гуще кофейной гадать.
Пусть леса таинственный абрис,
к окну подступая чуть свет,
нам будет нашептывать адрес,
подсказывать верный ответ —
давайте не слушать подсказок
всех этих проныр и пролаз
из тайного общества сказок,
где сплетни плетутся про нас.
Пусть тайною тайна пребудет,
пусть капля на ветке дрожит.
И пусть себе будет что будет,
уж раз ему быть надлежит.
«Что делать, мой ангел, мы стали спокойней…»
Что делать, мой ангел, мы стали спокойней, мы стали смиренней.
За дымкой метели так мирно курится наш милый Парнас.
И вот наступает то странное время иных измерений,
где прежние мерки уже не годятся – они не про нас.
Ты можешь отмерить семь раз и отвесить, и вновь перевесить,
и можешь отрезать семь раз, отмеряя при этом едва.
Но ты уже знаешь, как мало успеешь за год или десять,
и ты понимаешь, как много ты можешь за день или два.
Ты душу насытишь не хлебом единым и хлебом единым,
на миг удивившись почти незаметному их рубежу.
Но ты уже знаешь, о, как это горестно – быть несудимым,
и ты понимаешь при этом, как сладостно, – о, не сужу!
Ты можешь отмерить семь раз и отвесить, и вновь перемерить,
и вывести формулу, коей доступны дела и слова.
Но можешь поверить гармонию алгеброй и не поверить
свидетельству формул – ах, милая алгебра, ты неправа!
Ты можешь беседовать с тенью Шекспира и с собственной тенью.
Ты спутаешь карты, смешав ненароком вчера и теперь.
Но ты уже знаешь, какие потери ведут к обретенью,
и ты понимаешь, какая удача в иной из потерь.
А день наступает такой и такой-то, и с крыш уже каплет,
и пахнут окрестности чем-то ушедшим, чего не избыть.
И нету Офелии рядом, и пишет комедию Гамлет
о некоем возрасте, как бы связующем быть и не быть.
Он полон смиренья, хотя понимает, что суть не в смиренье.
Он пишет и пишет, себя же на слове поймать норовя.
И трепетно светится тонкая веточка майской сирени,
как вечный огонь над бессмертной и юной душой соловья.
Человек, отличающийся завидным упорством
Все дело тут в протяженности,
в протяженности дней,
в протяженности лет или зим,
в протяженности жизни.
Человек,
отличающийся завидным упорством,
он швыряет с размаху палку
(камень,
коробку,
консервную банку)
и отрывисто произносит:
– Шарик, возьми!
Друг человека Шарик,
занятый, как обычно, проблемами
совершенно иного рода,
издалека виновато машет хвостом
и мысленно
как бы разводит руками —
для нас это слишком сложно!
И все повторяется снова.
Человек,
отличающийся завидным упорством,
швыряет с размаху палку…
Дальше
происходит множество всевозможных событий,
бесконечной чередою проходят,
сменяя друг друга,
дни и недели,
дожди и метели,
солнечные затменья,
землетрясенья,
смены погоды,
годы, —
словом, проходит жизнь.
Но история эта конца не имеет,
ибо он,
человек,
отличающийся завидным упорством,
не подвержен старенью,
дряхленью
и умиранью.
Человек,
отличающийся завидным упорством,
швыряет с размаху палку…
«Когда в душе разлад…»