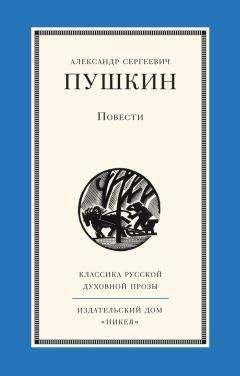Александр Пушкин - Медный всадник
Глыбу гранита; она, по приказу государыни,
Плывет по морю и бежит по земле
И падает в городе навзничь перед царицей.
Уж пьедестал готов; летит медный царь,
Царь-кнутодержец в тоге римлянина;
Конь вскакивает на стену гранита,
Останавливается на самом краю и поднимается на дыбы.385
Нет, Марк Аврелий в Риме не таков.
Народа друг, любимец легионов,
Средь подданных не ведал он врагов,
Доносчиков изгнал он и шпионов.
Им был смирён домашний мародер,
Он варварам на Рейне и Пактоле
Сумел не раз кровавый дать отпор, —
И вот он с миром едет в Капитолий.
Сулят народам счастье и покой
Его глаза. В них мысли вдохновенье.
Величественно поднятой рукой
Всем гражданам он шлет благословенье.
Другой рукой узду он натянул,
И конь ему покорен своенравный,
И, кажется, восторгов слышен гул:
„Вернулся цезарь, наш отец державный!“
И цезарь едет медленно вперед,
Чтоб одарить улыбкой весь народ,
Скакун косится огненным зрачком
На гордый Рим, ликующий кругом.
И видит он, как люди гостю рады,
Он не сомнет их бешеным скачком,
Он не заставит их просить пощады.
И дети близко могут зреть отца,
И мнится — ждет бессмертье мудреца,
И нет ему на том пути преграды.
Царь Петр коня не укротил уздой,
Во весь опор летит скакун литой,
Топча людей, куда-то буйно рвется,
Сметая все, не зная, где предел.
Одним прыжком на край скалы взлетел,
Вот-вот он рухнет вниз и разобьется.
Но век прошел — стоит он, как стоял.
Так водопад из недр гранитных скал
Исторгнется и, скованный морозом,
Висит над бездной, обратившись в лед. —
Но если солнце вольности блеснет
И с запада весна придет к России —
Что станет с водопадом тирании?».
ПРИЛОЖЕНИЯ
Н. В. ИЗМАЙЛОВ «МЕДНЫЙ ВСАДНИК» А. С. ПУШКИНА ИСТОРИЯ ЗАМЫСЛА И СОЗДАНИЯ, ПУБЛИКАЦИИ И ИЗУЧЕНИЯ
Памятник Петру Первому. Скульптор Э. Фальконе.
1
Последняя поэма Пушкина — «Петербургская повесть» «Медный Всадник», — написанная в болдинскую осень 1833 г., в период полной творческой зрелости, является его вершинным, самым совершенным произведением в ряду поэм, да и во всем его поэтическом творчестве, — вершинным как по совершенству и законченности художественной системы, так и по обширности и сложности содержания, по глубине и значительности проблематики, вложенной в него историко-философской мысли.
Вместе с тем творческие материалы, т. е. рукописи поэмы, черновые и беловые, сохранились в почти исчерпывающей полноте (кроме нескольких не дошедших до нас отрывков), что дает возможность проследить всю историю ее создания — от первого до последнего слова, изучить во всех деталях развитие творческой мысли Пушкина в работе над поэмой, от ее зарождения до завершения. Этому способствует и то, что весь рукописный материал, относящийся к «Медному Всаднику», опубликован под редакцией С. М. Бонди и Н. В. Измайлова в академическом издании сочинений Пушкина,386 так же как в рукописи другого, относящегося к нему предшествующего произведения, т. е. черновые и беловые автографы неоконченной повести в «онегинских» строфах, называемой по фамилии ее героя «Езерский».387
Достаточно хорошо известны — а отчасти указаны самим поэтом — художественные, исторические, философские и иные русские, французские, польские произведения, на которых основано и с которыми связано создание поэмы — ее литературный фон (в самом широком смысле этого слова), так же как и ее бытовой и биографический фон, ее связи с жизнью Пушкина, с его переживаниями, размышлениями и воззрениями.
Все это дает возможность на твердых и широких основаниях построить строго документированную историю замысла и создания «Медного Всадника» и установить его место в творческом пути Пушкина, его связи с предшествующим и окружающим творчеством поэта, его значение в истории русской поэзии и, шире, в истории русской литературы.
Но это еще не все. Очевидная для каждого внимательного читателя, а тем более для каждого критика и исследователя сложность и глубина идейного содержания «Медного Всадника», его историко-философской проблематики, неразрывно связанной с его художественной системой, вызывала начиная с Белинского и вызывает до сих пор, в течение почти 130 лет и особенно в последние полстолетия, разные попытки раскрыть «тайну» поэмы, проникнуть в ее сущность и построить ту или иную концепцию ее проблематики. Эти попытки многочисленны и разнообразны, появляются одна за другой; одни авторы следуют за Белинским и развивают его понимание, другие — стремятся дать нечто новое и своеобразное. Каждая попытка отражает и тот исторический момент, в который она выдвигается, и мировоззрение ее автора, и его методологические принципы. Во многих из таких попыток можно найти более или менее удачные построения, сопоставления и соображения. Но чем больше возникает в пушкиноведении новых теорий, тем чаще приходится с сожалением убеждаться, что ни одна из них не приближает нас к цели — к такому пониманию изумительной пушкинской поэмы, которое бы наиболее глубоко, обоснованно и объективно выражало ее сокровенную философскую сущность и давало бы исчерпывающее истолкование образной системы «Петербургской повести». В самые последние годы появляются рецидивы безудержного субъективизма, полного произвола в толковании «Медного Всадника», и эти печальные рецидивы выдаются за последнее слово литературоведческой методологии, способствующей «научным открытиям» и открывающей новые «истины»…
Мы ограничимся пока этими беглыми замечаниями, каждое из которых будет развернуто далее, по ходу изложения. Обратимся теперь к рассмотрению истории замысла и создания «Медного Всадника», начиная с истоков, с тех исторических явлений, которые вызвали возникновение замысла и основных образов, определяющих сюжет поэмы.
В поэме, или «Петербургской повести», как очень точно назвал ее в подзаголовке сам Пушкин, два основных персонажа, два героя, определяющих две сплетенные между собою и сталкивающиеся идейно-тематические линии: первый из героев — Петр Великий, «могучий властелин судьбы», «строитель чудотворный», создатель города «под морем», продолжающий как личность жить и после смерти в памятнике, давшем поэме ее заглавие; другой — Евгений, мелкий чиновник из обедневшего дворянского рода, опустившийся до мещанского уровня, «ничтожный герой», вошедший в 30-х годах в творческий кругозор Пушкина из окружающего быта. Эти два, казалось бы, неизмеримо далеко стоящих друг от друга героя оказываются связанными событием, самая возможность которого вызвана «волей роковой» «державца полумира», — Петербургским наводнением 7 ноября 1824 г., погубившим не только счастие, но и самую жизнь Евгения. Угроза, брошенная «кумиру» безумием в момент внезапного и «страшного» прояснения мыслей, и вызванный ею мгновенный гнев «грозного царя» составляют кульминацию поэмы. Вокруг этого момента вращаются уже второе столетие все разнообразные попытки ее истолкования. Но наводнение, по-видимому, является тем моментом, от которого нужно начинать творческую историю «Медного Всадника».
Когда произошло петербургское наводнение 7 ноября 1824 г. — сильнейшее наводнение в истории города, Пушкин жил третий месяц (с 9 августа) в Михайловском, сосланный из Одессы «в далекий северный уезд», и был глубоко взволнован происшедшим в самом конце октября тяжелым столкновением с отцом — столкновением, грозившим ему, быть может, новой административной карой.388
Когда и каким образом узнал он о наводнении, сказать трудно. Всего вероятнее, первые (официальные) сообщения о нем — рескрипт Александра I князю А. Б. Куракину от 11 ноября и краткий рассказ о происшедшем «бедствии» — Пушкин прочитал в № 269 газеты «Русский инвалид» от 13 ноября 1824 г.: до этого момента никакие сведения о наводнении в печати не допускались.389 Возможно, однако, что он узнал о «потопе» и раньше, из письма петербургской приятельницы сестры — Е. М. Ивелич, написанного, по-видимому, тотчас после наводнения, но полученного в Михайловском уже после отъезда Ольги Сергеевны и распечатанного поэтом.390
Как бы то ни было, в том мрачно-отчаянном настроении, в котором Пушкин был в то время, когда умолял Жуковского спасти его «хоть крепостию, хоть Соловецким монастырем» (XIII, 116), он отнесся к «потопу» желчно-иронически, видя в нем заслуженную кару «проклятому Петербургу» и выражая беспокойство лишь о судьбе «Северных цветов» Дельвига и винных погребов. В одном недатированном письме к брату, Л. С. Пушкину, он писал: «Что погреба? признаюсь, и по них сердце болит. Не найдется ли между вами Ноя, для насаждения винограда? На святой Руси не штука ходить нагишом, а хамы смеются. Впрочем это все вздор» (Акад., XIII, 122).391 Первые известия о наводнении дали ему повод к фривольной шутке на французском языке, обращенной к петербургским дамам,392 и вызвали мрачное заключение: «Я очень рад этому потопу, потому что зол. У вас будет голод, слышишь ли?». Закончив и запечатав письмо, поэт снова его распечатал, чтобы приписать поручение брату, касающееся, по-видимому, состояния винного погреба в Михайловском: «Ах, милый, богатая мысль! распечатал нарочно. Верно есть бочки, per fas et nefas (законным или незаконным образом (лат.), — Н. И.), продающиеся в Петербурге — купи, что можно будет, подешевле и получше. Этот потоп — оказия».