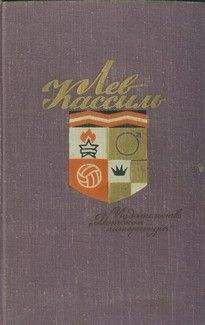Давид Самойлов - Стихи
1946–1947 гг.
Апрель
При позднем солнце странен сад,
Висящий в небе вверх ногами.
А рядом с ним дома висят
Над птицами и облаками.
И кто-то мило «ци-ци-ци!»
Лепечет около сарая,
Наверно, поздние скворцы,
Я это плохо разбираю.
Я горожанин. Не боюсь
В природных звуках быть профаном.
Любя задумчивую Русь,
Не отношу себя к крестьянам.
Я знаю то, что в грозный час
Не птичье пенье, не природа
Сурово поднимали нас,
А чувство правды и народа.
Забритый в город хулиган,
Талант и поздний пугачёвец,
Завистник зарубежных стран,
Знаток словечек и пословиц,
Тебя я вовсе не корю
И не завидую, однако,
Ты в городе — кум королю
И даже знаешь Пастернака.
80-е гг.
Сентиментальная весна
Весна, сентиментальный друг,
Кричит растрёпанная птица,
И много воздуха, но вдруг
Всё это может прекратиться…
И этим можно пренебречь.
Зачем, зачем воды теченье,
Когда слова, сбегаясь в речь,
Сложились в странное значенье.
Богемы злобствующий князь,
Он же притворствующий дворник,
Нам проповедует, ярясь,
Аки святой или затворник.
Нет, нам заимствовать нельзя
Идеи Ницше или Кафки,
При этом, может быть, внося
То оговорки, то поправки…
Уйди, сентиментальный друг,
И лучше слуха не насилуй.
Послушай, братец, как вокруг
Скворцы вещают с дикой силой.
80-е гг.
Выздоровление
Раньше нужно было умирать
Постепенно или лучше — сразу.
А теперь — существовать, желать,
Изживать погибель, как заразу.
Думать и про это и про то,
Вновь плутать среди проблем нелёгких,
Осторожно кутаться в пальто
И прислушиваться к хрипу лёгких.
Слушать всё, всему внимать,
Натыкаться, как на острый бивень.
А тогда мне — ни жена, ни мать,
Ничего, никто — одна погибель.
Я смирился было. Я постиг
Что не страшно перевоплощенье.
Я руками слабыми настиг
Всеприятие и всепрощенье.
А теперь сначала. Каждый грамм
Погружать в себя, пока не станет тонна.
Стать опять помостками для драм,
Облегчения не ждать от стона.
И опять понять, что я —
Продолжающееся явленье.
Непосилен груз выздоровленья,
Непосильно счастье бытия.
60-е гг.
Романс
Среди равнины снежно-белой
Хозяйка красная живёт.
У ней, как гроздь рябины спелой,
Коралловый и горький рот.
Забыв пленительные чары,
Она гадает ввечеру
И смотрит, полная печали,
В окно, как в чёрную дыру.
Не жди, хозяйка молодая,
К тебе любимый не придёт,
И охлади, в ночи гадая,
Коралловый и горький рот.
Не зря с тобою целовались
Его коварные уста.
Чтобы надежды не сбывались.
Чтоб зря текли твои лета.
1978 г.
" Ну вот и мы с тобой стоим "
Ну вот и мы с тобой стоим
У самой грани расставанья.
И сосчитать не в состояньи
Всё, что нам дорого двоим.
Глухие к голосу молвы,
Почти враждебные друг другу,
И чувство, близкое испугу,
В себе старательно таим.
Перечисляем сто обид
(Увы! Они ещё живые!),
И судим, может быть, впервые
Свой странный дом,
свой странный быт.
И слово прежней доброты
Захлёбывается и тонет.
Нас что-то друг от друга гонит,
А что-то стонет и скорбит.
Неужто я был впрямь незряч
И всё могло пойти иначе.
И я усмешки неудачи
Считал улыбками удач.
Неужто я сошёл с пути
И где-то заплутал по тропкам
И заробел на месте топком?
Теперь поди, переиначь!
Теперь аукайся, зови,
Когда и след почти потерян.
И где-то он, высокий терем
Моей удачи и любви!
Теперь уж лучше напролом
Брести по бурелому ночью,
Одежду раздирая в клочья
И сердце раня до крови.
Идти! А там уж поглядим!
Уж лучше расшибиться в доску,
Чем возвращаться к перекрёстку,
Где я покинут был один.
Один! Тогда я не судил.
Ведь я любил и был доверчив.
И даже душу изувечив,
Я не судил. И не судим.
60-е гг.
" Здесь в доме умер мой отец. "
Здесь в доме умер мой отец.
Мне с давних пор знаком и дорог
Здесь каждый шум, и каждый шорох,
И стон дверей, и скрип крылец.
Нет, он не крепость, этот дом.
Он просто слишком много значит.
Здесь по утрам шумит и плачет
И радуется мой малец.
А летом здесь гостей полно
И щёлкает пингпонный мячик.
При ветре тополь, как незрячий,
Неловко тычется в окно.
Дичают яблони. Цветёт
Шиповник около забора.
И пьют друзья для разговора
Коньяк и кислое вино.
Здесь осень — время тишины —
Играет в соснах под сурдинку.
Мелькнёт на солнце паутинка,
Как первый проблеск седины.
И дятел бьёт о ствол сухой,
Как одинокий цеп по току.
И облака плывут к востоку,
Как полногрудые челны.
60-е гг.
Двое
В освещенье нескольких свечек
Прокурор сидит и ответчик,
И ответчик и прокурор.
Постоянно меняются роли
На театре крови и боли —
Повелось это с давних пор.
Подают друг другу бокалы —
И неистовы и усталы,
Доливают друг другу вино.
А потом, друг друга жалея,
Подливают в вино елея.
Началось это так давно.
А вокруг, вкушая напитки,
Восседают свидетели пытки
И снимают нагар со свечей.
И не знают, что сбились с круга
Эти двое, друг из-за друга
Потерявшие смысл речей.
80-е гг.
" «Года-Любовь». Я там себя узнал "
С.Е.
«Года-Любовь». Я там себя узнал,
В твоём наброске. Или же ошибся?
Но тот обломок гипса
Меня напоминал.
Нет, он скорей напоминал тебя тех лет,
Когда писала, надышав на гладь стекла,
Прощальный бред.
Разлукам не было числа.
Я не любил тебя,
Как сорок тысяч братьев.
Томился, не любя.
И полюбил, утратив.
Я виноват, что не хотел тебя лепить
И что твоим страстям тебя я продал в рабство,
Что, не умев любить,
Поверил поцелуям братства.
«Года-Любовь». Года, любовь и боль,
И память всё смиренней.
Лишь слышны отзыв и пароль
Двух судеб, двух стихотворений.
80-е гг.
Сопротивленье
Так наступает нелюбовь.
Сопротивляется всё тело,
Всё содержание души,
Устройство плоти и скелета,
И даже — господи спаси! —
Глаза, не видящие света.
Сопротивляется мечта,
Сопротивляется безверье,
Сопротивляются уста,
Печаль, безумство и веселье.
Сопротивляется перо,
Сопротивляется бумага,
Сопротивляется нутро,
Сопротивляется присяга.
Сопротивляется рука,
Вся в ярости неукротимой,
Натруженная, как река,
Пересечённая плотиной…
И все ж, не в силах побороть,
Смиряются душа и плоть.
80-е гг.