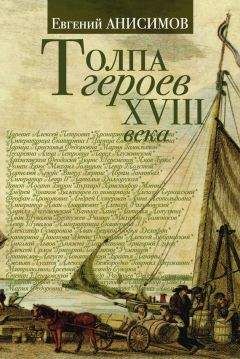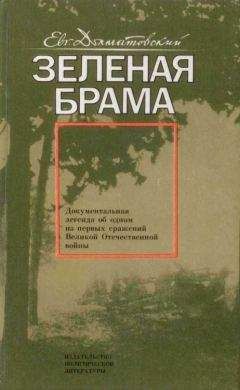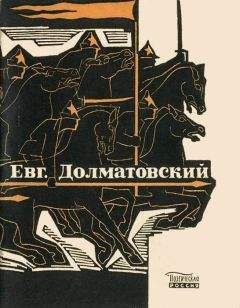Евгений Долматовский - Добровольцы
Глава тридцать седьмая
ДОМА
Каждый день друг друга видя,
Не заметишь перемен,
Но когда разлука выйдет —
Вот как с нами, например, —
Каждая видна морщина,
Каждый проблеск седины.
Николай ласкает сына,
Гладит волосы жены.
А мальчишка рядом с мамой,
Как опора и как друг,
Весь в отца, крутой, упрямый,
От смущенья вспыхнул вдруг.
Нет, не ждал он, чтобы папа,
Сталинградский ветеран,
Щеки в оспенных накрапах
Рукавами вытирал.
Таня собрала пожитки,
И в глазах ее тоска,
Голубая ходит жилка
У девичьего виска.
«Погоди, тебе, дружочек,
Убежать мы не дадим,
Вот когда приедет летчик,
Уходите вместе с ним».
…Как спокойно течь рассказу,
Если хочешь дать отчет
За четыре года сразу,
А полсотни дней — не в счет!
«Лелька, Лелька! Помнишь Фрица?
Чудом гибель одолев,
Он теперь, как говорится,
На метро в Берлине шеф.
Он прошел такие беды,
Что не сыщешь на войне!
Перед самым днем Победы,
Как рассказывал он мне,
Их концлагерь в перелески
Выводили на расстрел,
Но один герой советский
Заслонить его успел.
Фриц еще сказал, что кличка
Танин у него была.
Дочь полковника, москвичка,
На Каляевской жила».
Таня вся затрепетала,
Растревожена, бледна.
Может быть, отца узнала
В этом подвиге она?
Или встретилась с легендой,
И приметы неверны,
И отец исчез бесследно
На четвертый день войны?
Достоверно неизвестно,
Как он путь закончил свой.
Но за то, что жил он честно,
Я ручаюсь головой!
Пусть без черных подозрений
Встанут в памяти времен
Жертвы первых окружений,
Не назвав своих имен.
И рассказ уходит дальше,
Открывая новый след:
«Под Берлином я на даче
Видел в рамочке портрет.
До чего похож на Гуго,
Как две капельки воды!
Сердце застучало глухо
От совсем чужой беды».
За рассказом стынет ужин.
Но и Леле невтерпеж
Рассказать подробней мужу,
Как ее объект хорош.
Вот она достроит скоро
Новый станционный зал,
Коридор из лабрадора,
В белом, мраморе портал.
Держат свод, светясь, колонны,
Их без счета в зале том.
И хрустальные пилоны
В обрамленьи золотом.
Но Кайтанов почему-то
С грустью слушает, жену,
Иль от ласки и уюта
Отучился за войну?
«Говоришь, роскошно в зале? —
Колька сплюнул горячо. —
Видно, в Орше не бывали
Архитекторы еще».
Леле страшно: «Что с ним стало?
Коля разлюбил метро!»
Наклонился он устало,
И в проборе замерцало
Фронтовое серебро.
А потом, Алешу вспомнив,
Все притихли за столом.
Притулился Славик сонный
Под отеческим крылом.
…Утром Леле в управленье
Надо ровно к девяти.
Есть у Коли настроенье
С ней к товарищам пойти.
От приветствий и объятий
Закружилась голова.
Всем он друг и всем приятель,
Так ждала его Москва!
Знаменитый архитектор
В управлении как раз.
Рассмотрение проекта
Ожидается сейчас.
Вот эскиз и два макета,
Видно каждую деталь:
Будет станция одета
В мрамор, бронзу и хрусталь.
Все начальники в восторге,
Но, молчавший до сих пор,
Мрачный, в старой гимнастерке,
Отставной встает майор.
Говорит он точно, веско,
Мысль его, как штык, пряма:
Что от Бреста до Смоленска
Лишь руины — не дома,
От границ до Сталинграда —
Только щебень да зола.
Нет, не время для парада,
Стройка будет тяжела!
Зарождался стиль эпохи
В первых линиях у нас.
Были станции неплохи,
Всюду радовали глаз.
А теперь какого черта,
Если людям негде жить,
Делать стены в виде торта,
Позолотой мрамор крыть?
«Да, красиво, я не спорю,
Но нельзя, сдается мне,
Строить с безразличьем к горю,
Причиненному стране».
Нет, никто не ждал скандала.
В первый день сердечных встреч
Очень странно прозвучала
Эта яростная речь.
«Что с Кайтановым случилось?»
«Раздражительный субъект!»
«Он разнес, скажи на милость,
Изумительный проект».
«Сами знаем, были беды,
Но зато каков итог!
Исторической победы
Бригадир понять не смог».
«Да, с концепцией такою
На метро работать как?»
«Не вернут на шахту Колю:
Слишком резок он, чудак!»
Глава тридцать восьмая
МИРНЫЕ ДНИ
Полковник Уфимцев приехал в столицу
С большим чемоданом, с японскою водкой,
С такими рассказами про заграницу,
Что зимняя ночь показалась короткой.
Как будто не старше он стал, а моложе,
Хотя не в одной побывал переделке.
И щеки покрыты пушистою кожей,
И брови как две золотистые стрелки.
Привез кимоно он с драконами Тане,
А Леле такое ж, но только с цветами.
А Славику — куклу в стеклянном футляре:
«Ну как не учел я, что вырос наш парень!»
И сделалось Тане по-взрослому страшно
От звона его орденов и медалей,
От этой повадки его бесшабашной:
Наверно, в разлуке не знал он печалей.
Но утром не прежний — душа нараспашку, —
Задумчивый и совершенно не пьяный,
Сказал он, на брови надвинув фуражку:
«Нам надо пойти прогуляться с Татьяной».
Вот этого Таня как раз и боялась.
Ее никогда он не видел зимою,
А тут еще шубка совсем истрепалась,
И мех на подоле свисает каймою.
Губами сухими, как будто от жажды,
Хотелось Уфимцеву прямо и честно
Сказать, что он видел ее лишь однажды
И как будет дальше, еще неизвестно.
Но вместо того он сказал ей спокойно,
Что в загс они утром отправятся завтра,
Что он ее образ пронес через войны, —
И это была полуложь-полуправда!
А Тане, смущенной, хотелось поведать
Ему о прихлынувшем к горлу мученье,
Что он для нее был мечтой о Победе,
Не Славкой, а Славой — в высоком значеньи.
А нынче шумит он, острит грубовато,
Дымит папиросой, пьет желтую водку…
А может, она перед ним виновата,
Что слишком поверила встрече короткой?
Хотелось сказать ей: «А может, не надо?
Был вечер свиданья и годы разлуки».
Но грустно шепнула она: «Как я рада!» —
Чтоб только конец положить этой муке.
Он вспомнил полячку из города Люблин
И девушку из офицерской столовой
И громко солгал ей: «Легко, когда любишь,
Быть верным возлюбленной в битве суровой».
Снежинками их обвенчала столица,
И щеки румянцем украсила вьюга,
Решили в гостиницу переселиться
Они, загрустив, но поверив друг в друга.
И если была в том частица обмана,
То каждый себя обманул, не другого.
…Наутро Уфимцевой стала Татьяна.
Все в мире чудесно, красиво и ново.
Сомненья ушли, унеслись огорченья,
Она дождалась своей радостной доли.
Полковник легко получил назначенье,
Он будет в Москве испытателем, что ли…
Видать, у начальства в чести,
На «эмке», машине казенной,
Он едет на службу к шести,
Оставив любимую сонной.
Прикрыл осторожно он дверь,
Не то она рано проснется.
Пускай отдыхает теперь,
Метро без нее обойдется.
Не знает жена ничего
О службе его, о работе,
Все ждет и жалеет его:
Не холодно ль там, в самолете?
Не скучно ль ему одному,
Не страшно ль в пустыне воздушной?
Нет, кажется, жарко ему.
Нет, кажется, вовсе не скучно!
У птицы особенный вид,
О ней еще песен не пели.
И даже отсутствует винт,
Что в детстве мы звали «пропеллер».
Машину выводят на старт.
Как юный конструктор взволнован!
А Славу вздымает азарт
Навстречу опасностям новым.
Он первый… Он вызвался сам
Ракетную птицу освоить.
Свой звук отдавая лесам,
Турбина могучая воет.
Он делает «бочки», пике,
И «горки», и «мертвые петли».
Приборы послушны руке.
Сейчас, как в бою, не запеть ли?
Нет, он из машины своей,
Пожалуй, не все еще выжал.
Не знали таких скоростей,
Никто не залетывал выше.
Быстрей! Все быстрей! Он поет…
Но видит в бинокли начальство,
Что там, наверху, самолет
Разламывается на части.
А летчик? Он падает вниз!
Сумеет ли выдержать сердце?
В ушах оглушительный визг.
Кричи — это лучшее средство.
Как долго к земным берегам
Плывет парашюта медуза,
Так больно рукам и ногам
От их невесомого груза.
И снег заклубился, как дым.
К пилоту бегут санитары,
Конструктор склонился над ним,
В мгновение сделавшись старым.
Но, кровь вытирая со рта,
Размазав ее по ладоням,
Уфимцев твердит: «Ни черта,
Мы звук непременно обгоним!»
А ночью звонит он заждавшейся Тане:
«Прости, что не смог я приехать к обеду:
Погода нелетная, небо в тумане,
Не раньше субботы я в город приеду».
(И в мыслях сравнил он жену свою с Машей,
А сравнивать, может быть, вовсе нельзя их,
Поскольку тогда в поколении нашем
Еще не водилось домашних хозяек.)
И трубку кладет он рукою свинцовой,
Согнувшись от невыносимой ломоты.
Синяк на скуле набухает, багровый, —
Наверное, он не пройдет до субботы!
Глава тридцать девятая