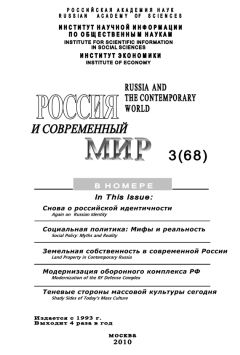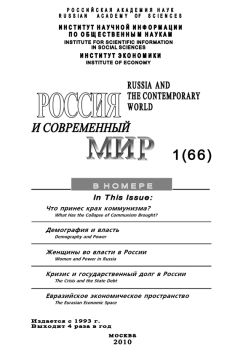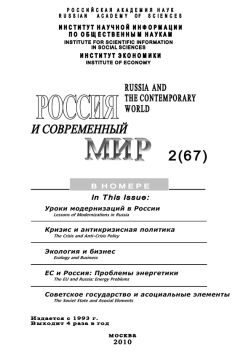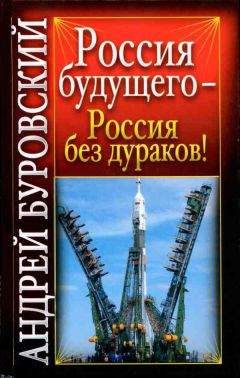Владислав Резвый - Победное отчаянье. Собрание сочинений
С этой точки зрения всегда было трагично, а сейчас трагично в удесятеренной степени положение иного продьюсера, – продьюсера литературных ценностей, в частности произведений, написанных стихом, т.е. размеренными строчками с рифмами и аллитерациями.
С одной стороны, он трагически сходен с экономическим продьюсером, коль скоро и его продукты требуют сбыта, с другой – как продьюсер, и в целях наилучшего производства – он трагически с фабрикантом-продьюсером не совпадает, так как чем менее творчество поэтическое упирается на массовость и скоропреходящую злободневность, тем оно продуктивнее в смысле его подлинности и долговечности.
Это несоответствие, несмотря на всю его видимую прозаичность, является, однако, очевидным и реальным фактором современной литературной действительности. Отмахнуться от него как от чего-то низкого нелегко. И даже не в экономическом смысле нелегко, – поэты как-нибудь проживут без гонораров, как-нибудь по-другому устроят свою жизнь, не в этом соль. Соль в том, что творцу нужно всё время ощущение взаимодействия между ним и какой-то аудиторией, непременно реагирующей на то, что он сказал или написал. Речь не идет о согласии этой аудитории с творцом, поэтом в данном случае, а именно о ее реагировании. Пусть иногда даже отрицательное реагирование, но не снисходительность, не индифферентность.
Эта индифферентность современного читателя имеет одну неприятную черту, а именно: она есть индифферентность к поэзии вообще, к поэзии во всех почти ее проявлениях, но она прикидывается, что она индифферентна лишь к современным поэтическим явлениям, которые в крайнем своем выражении могут быть обозначены словом «заумь». Современный читатель притворяется, что он не любит современные стихи, заумные стихи, и он и себе не признается, что, в сущности, поэзия сама по себе ему нужна. Но в этой косности он никогда не дойдет хотя бы до Смердяковского крайнего утверждения: «стихи – вздор-с, ну рассудите сами, кто же на свете в рифму говорит» – не дойдет, потому что ведь были же Пушкин, Лермонтов, которых и проходим в гимназии (нет, конечно, поэзия -великая вещь), но современная поэзия вовсе не поэзия! Так безразличием к современной поэзии маскируется безразличие к Поэзии с большой буквы, которая всегда едина, для которой нет ни настоящего, ни прошедшего, ни будущего.
Вот почему защиту поэзии в лице современной поэзии я начну с защиты именно зауми как крайнего выражения современной поэзии. Защита будет преимущественно психологическая. Существует выражение: «понять – простить». Вот к этой способности понимания я и буду апеллировать: «Поймете – и тогда простите».
Дело в том, что есть, по моему мнению, два сорта зауми, которые профан по неведению не различает. Есть заумь и заумь. Такое, например, стихотворение:
25, 25… целых 8.
Далеко стонет бледная Лебедь,
Этот Март невесенен, как осень.
25, 26 – будет 9.
Будет 9. Иль 100, 90.
Под землей бы землею прикрыться.
Узел туг, а развяжется просто:
900, 27, но не тридцать.
900, да 17, да 10.
Хочет Март Октябрем посмеяться.
Хочет бледную лебедь повесить.
Обратить все 17 – в тринадцать.
Стихотворение это принадлежит поэту-символисту, З. Гиппиус. Напечатано в девятом номере Чисел. Это, без сомнения, заумь, потому что, хотя никогда истинная поэзия не может быть передана иначе, как только теми словами, какие употребил поэт, всё же идея незаумного стихотворения может быть с грехом пополам выражена в точных понятиях. Идея процитированного стихотворения только чувствуется, смутно угадывается, уточнить и постигнуть ее рассудком до конца невозможно.
Этого рода заумь я бы назвал заумью символической, или заумью символистов. Причина такого рода поэзии (я опять упрощаю и опошляю) заключается в бессилии слова. Когда-то пламенно восклицал Надсон: «холоден и жалок бедный наш язык». Но восклицать, но констатировать бессилие языка мало. И вот символисты подошли практически к делу. То – из хаоса человеческих мыслей и чувств, что не укладывается в адекватные понятия, они пытаются передать посредством эквивалентов, символов. В данном стихотворении дело обстоит именно так. Таковы истоки – мною это очень грубо очерчено – поэзии символической, символической зауми, – да будет позволено мне так выразиться.
Но есть иная заумь. Она, пожалуй, философски неотделима от символической зауми, но практически, формально между ними есть отчетливая граница. Эту заумь я назову заумью футуристов.
Исключительно ярко и обнаженно формулирует в стихотворной форме сущность этой зауми Велемир Хлебников. Он говорит в одном месте:
Вчера, в полминуты пополудни,
Мир скончался на моих руках.
Я проснулся и в испуге
Стал шептать пустые слова.
Тельман… Сахту… Скуе…
Дело в том, что слова человеческие есть лишь обозначения мира вещей, вещного мира. И вот Хлебников говорит: «мир скончался», – о каком скончании мира он говорит? Разрешить этот вопрос нам поможет Крученых, который в одной из своих теоретических статей говорит (передаю неточно по памяти): «Лилия прекрасна, как лилия, как цветок, как вещь», но ужасно
слово «лилия», затасканное до омертвелости. Теперь нам ясно, о скончании какого мира говорит Хлебников, – разумеется, не о скончании мира вещей, который никогда не перестает быть прекрасным, но о скончании мира слов, обозначающих эти вещи. Вот почему хотя бы Крученых слово «лилия», мерзкое ему многократным повторением, как становится мерзким романс, вначале сильно действующий, если он распевается на всех перекрестках, – заменяет это слово словом: «еуы» его собственного изобретения, полагая, что это слово прекраснее слова «лилия». Попытка эта, конечно, курьезна, но нельзя не согласиться, что она – только крайнее выражение переживания, которое должно быть психологически всем знакомо. Как часто от лиц, совершенно к литературе не причастных, можно слышать следующее: «вот писал, или писала письмо, так много хотел сказать, а перечтя, увидел, что ничего не вышло, – совсем не то, что я хотел сказать». Если не пишущему вообще человеку это переживание не совсем чуждо, что же говорить о поэте, который взвешивает «цвет, запах и вкус» слова? Вот почему, если не внешне, то психологически, по человечеству, так сказать, надо признать правоту за заумниками. Пусть эти попытки курьезны, пусть даже на грани безумия стоят они, -понять их значит: простить…
Гежелинский «Об искусстве»
Когда в Германии был написан Вертер, началась своеобразная эпидемия. Молодые люди стали носить желтые панталоны и синий фрак – костюм Вертера, и самоубийства участились. А после написания Байроном Чайльд-Гарольда – сколько Чайльд-Гарольдов расплодилось по всей Европе, включая и нашу Россию. Все мы помним «москвича в Гарольдовом плаще», который еще нынче не перестает формировать поведение многих людей.
Вся мировая литература держится, собственно говоря, на этом. Художники создают известные типы, образы, «образы поведения». В этом действенность искусства. В сущности люди, особенно в период юности, не знают, как им вести себя в этой жизни. Тогда-то им приходят на помощь образы искусства. Эти образы формируют человеческую психологию, побуждают людей яснее разобраться в их пристрастиях и антипатиях. Нынче, например, кинематографические образы играют огромную роль в этом формировании. Появились Греты Гарбо, Рудольфы Валентино, Тарзаны, Джоны Барриморы…
Но, в сущности, все эти «образы поведения», несмотря на их видимое разнообразие, можно свести к двум-трем основным, корневым образам. Эти последние, сочетаясь разными способами, вступая во взаимодействие, и создают видимое разнообразие психологических типов. Попробуем откопать эти корни.
Во-первых, Аполлон. Это – стройность, солнечность, уза-коненность, миропорядок. И это – прежде всего – существование, не омрачаемое мыслями о смерти, приятие жизни так, как если бы она была дана на веки вечные.
«Но, – по слову поэта, – бурь уснувших не буди, под ними хаос шевелится». Аполлиническая ясность неизбежно затмевается, миропорядок оказывается не толь уж прочным перед темным ликом Фатума. Здесь выступает на сцену образ Диониса. Это – опьянение, экстатичность, отдача себя хаотическим силам. Здесь начинается трагедия, как только эти два образа вступают в борьбу, и вся история, по существу, является ареной борьбы Аполлона и Диониса.
Однако и Аполлону, и Дионису не хватает полноты. Они -как бы две стороны какого-то целого… И история выдвигает тогда образ Христа, которому суждено утихомирить трагические начала и ввести начало литургическое.
Правда, власть дохристианских образов Аполлона и Диониса далеко еще не изжита, они не лишились еще их формирующей силы, трагическое мировоззрение еще господствует, но в этом-то и лежит задача современного искусства, чтобы разрешить трагические диссонанс посредством образа Христа.