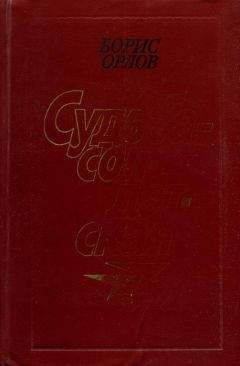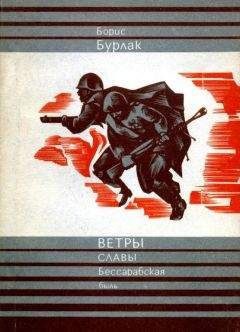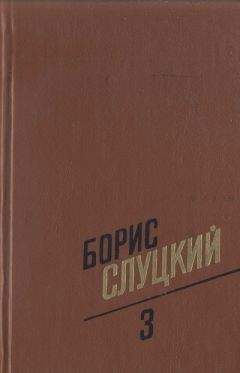Борис Слуцкий - Записки о войне. Стихотворения и баллады
Наступали новые времена, рабские времена. Потом, когда я вспоминал Пасечника, я думал, что мои слова о вечной службе могли показаться не брехней, а обязательством.
Из-за стариковой спины выглядывала Пасечниха — дебелая баба, разъевшаяся на картошке с подсолнечным маслом со своего огорода. Она совсем осовела от страха и только твердила: «Гоны жыда! Гоны жыда!» И все же я переночевал у старика и наутро получил у него старый костюм и штиблеты. Я вынул три тридцатки (из пяти бывших у меня), но старик отказался. Страх соскочил с него, и он хотел делать свое святое дело свято до конца.
Позже немцы запретили эти тридцатки с портретами Ленина и разрешали только мелкие купюры — с изображением рабочего и крестьянина. Такая у них была политика.
Пасечник рассказал мне, как собирали списки евреев через управдома и «актив» соседей; как шла истерическая торговля за выкрестов, за еврейских жен христианских мужей; как шли евреи по улице — не стройной колонной, а нескончаемой очередью, хвостом — в лавку, где выдавали смерть.
Я попрощался и без надежды побрел к себе домой. Мы жили на третьем этаже. Во дворе мне никто не встретился. Взбежав по лестнице, я увидел, что дверь открыта, в комнатах все перевернуто, лак с гардероба содран большими полосами.
На шум вышла Кондратьевна — соседка, серьезная старуха. Она только покачала головой: «Ну, Григорий Моисеевич, ты счастливый человек. Твоя женка уехала с последним эшелоном в Ташкент — туда теперь все ваши едут». Так у меня появилась первая цель в жизни — выжить, дождаться, повидать жену и Катю.
Еще она рассказала мне, что управдомом над тремя улицами назначен Корсунский. Это был тот еврей. В Киеве его считали за одессита. Высокий, представительный, в очках, похожий на профессора, он занимался подозрительными коммерческими операциями и редактировал домовую стенгазету, жил в ладу со всем местным начальством. Сейчас он додумался до невероятной вещи — назвал себя караимом[159], говорил с каким-то ученым немцем и получил охранную грамоту, к большой злобе своих соседей.
Я уже спускался с лестницы, направляясь к Корсунскому, как вдруг на меня бросилась женщина, знакомая, жившая в этом же дворе. «А, еврей, — закричала она, — за барахлом пришел, в гестапе твое барахло», — и крикнула мальчишке во двор, чтоб бежал за немцами жида забирать. «Анна Романовна!» — сказал я ей тихо. До этого я никогда не называл ее Анна Романовна, и никто во дворе так ее не называл — все знали ее как проститутку, в сорок пять лет она спала с каждым за пятерку, и сын ее, матрос, приехавший в отпуск, отказался от нее и пошел ночевать к соседям, на другое утро уехал обратно на корабль.
Но я сказал: «Анна Романовна!» — и слеза пошла откуда-то снизу в голову, и ноги подкосились, и я понял: еще немного, и я, член партии, член горсовета, заслуженный человек, упаду на колени и буду молить ее о жизни, еще немного пожить на белом свете.
Но по лестнице уже бежал дворник, и я вырвал у нее рукав, ударил по лицу и выпрыгнул из окна, со второго этажа, побежал по улице. А за мной гнались дворник, соседка и мальчишка и кричали: «Жид! Жид! Держи жида!» И еще два года с тех пор я все бегал по улицам и слышал за своей спиной: «Жид! Жид! Держи жида!» Но прохожие не помогали меня ловить. Мне казалось, что многие смотрели на меня с грустью.
Через два часа я сидел на квартире у Корсунского, пил чай с молоком. Весь шик соскочил с этого человека, и он в самом деле походил на пожилого профессора. До войны мы не ладили друг с другом. Я всегда считал, что еврей должен работать, а не торговать — и так все кричат, что мы коммерческая нация. Но сейчас мы сидели друг против друга, как братья. Я понимал, что могу многое от него потребовать. Он знал, что я не запрошу лишнего, и надо дать все, что я запрошу.
— Положение таково, — сказал Корсунский. — Немцы раздали жителям пятьдесят тысяч комплектов имущества бежавших и расстрелянных евреев, пятьдесят тысяч комплектов мебели, белья, плюс столовая посуда, плюс кухонная посуда. На место вашего актива они посадили свой актив — комитеты по розподилу жидивского майна[160]. Кстати, там много ваших активистов. Еще месяца два, пока не возьмут Харьков, — Корсунский был уверен, что Харьков возьмут, — по шоссе будут ходить патрули. Эти два месяца сиди здесь. Свяжись с комитетом по розподилу. Документы у тебя есть. Тебе дадут квартиру, может быть, две. Их так много, что успели собрать только — вершки часы, отрезы, кожаные пальто. За два месяца ты наторгуешь на базаре достаточно, чтобы перейти фронт. Потом он вытолкнул меня из дверей, сунул на прощанье пачку бумажек. Там оказалось две тысячи рублей — тридцатками.
Комитет по розподилу состоял из шести старичков — аккуратных, вежливых — корректора, бухгалтера, мастера из портновских артелей. За тысячу двести рублей мне дали две квартиры — Шапиро и Бронштейна. Всего пять комнат. К счастью, я не знал ни того, ни другого. Я должен был составить опись имущества, главным образом, малоподвижного, — тряпки никто не учитывал. Трижды комитетчики собирались на одной из моих квартир. Ели мед, пили чай с блюдечка, чистенькие, в очках и сюртуках. Потом утверждали составленные мною списки, назначали несуразно низкие цены на ковры, на пианино, на книги — двадцать пять процентов разницы шло им, остальное брал я — за работу. Понемногу обе квартиры перекочевали на рынок. Сначала меня бросали в дрожь белые надверные наклейки: «Бронштейн — жидивске майно» и «Шапиро — жидивске майно». Потом привык. Через месяц у меня были подготовлены два костюма, итальянский заплечный мешок, шесть тысяч рублей советскими деньгами, кое-какие ценности в золоте. С этим я предполагал идти в Харьков, где жила теща — русская и ее сыновья. Мой уход был ускорен визитом одного из комитетских старичков. Он пришел пьяненький, посмотрел на меня, присел — в то время я уже разъелся и начинал терять угодливость. Он сказал: «Григорий Михайлович, Григорий Михайлович, а не из евреев ли вы будете, Григорий Михайлович?» Я засмеялся и сказал, что в Полтаве у меня мать и две сестры — их весь город знает, и что я сам пострадал от евреев, и дал ему шестьсот рублей деньгами и часы.
Через полчаса я уже шагал по малолюдным улицам. По дороге зашел к Корсунскому, постучался и вдруг отшатнулся, заметив белую надверную наклейку: «Корсунский — жидивске майно».
В начале января я пришел в Харьков.
В то время Харьков был наполовину пустым городом. Продолжительность его обороны дала возможность выехать всем, кто этого хотел. Еврейские трупы уже гнили в Лосевских карьерах. Уцелевшие жители расползались по всей Украине с тачками, ручными тележками — в городе был голод. Только на следующий год горожане додумались сеять спасительную кукурузу. В первую же военную зиму тысячи и тысячи угасли в нетопленых квартирах. Мужчины пухли, надолго теряли половую потенцию. Женщины шли на улицу, где шныряли немецкие офицеры, приехавшие с близких позиций, и по всему фронту от Орла до Ростова гуляла слава о Кузнецкой улице — улице солдатских борделей и иных гостеприимных домов.
Еще долго, много недель после второго освобождения Харькова, девушки прятали парижские прически под скромные платочки, разучивались говорить по-немецки, вспоминали, как ночами плакали на сборных пунктах отправки в Германию, как внезапно налетали их друзья эсэсовцы, снимали армейскую охрану, в темноте водили фонариками по заплаканным личикам, увозили своих подруг в казармы.
Была провозглашена свободная торговля. Возникли торговые артели. Вербовались осведомители, и их глухо ненавидело коренное население. Чиновники городской управы выпросили у коменданта десять грузовых машин, послали их с еврейским барахлом на Полтавщину менять на продукты. Старшим колонны был назначен некто Ященко, маленький человек, кассир. Через два месяца он вернулся миллионером, скупал дома, развернул большую валютную торговлю. Таких миллионеров в Харькове считалось пять-шесть человек.
Пусто было в Харькове. Я заходил в дома. Звонил. Обрывал ручки — так, что три этажа гудели, как от колокола. Из какого-нибудь чердака выползала старушка, шептала: «Все уехали…» или: «Все посажены…» или: «Всех в овраг стащили».
Ночевать я пошел на Клочковскую, где жила теща Мария Павловна с взрослым сыном Павликом. Она слабо всплеснула руками и смотрела так жалко и голодно, что я подумал: «Ведь есть люди, которые еще несчастнее, чем я». Вошел юноша — сын, Павлик, — до войны он часто брал у меня деньжат — на пиво. Но сейчас я встал и вытянулся перед ним.
«Уходи, жид, — сказал Павлик. — Даю тебе тридцать минут срока. После этого иду в полицию». Он заметил время на часах, и я понял, что он все решил, давно и бесповоротно, что не надо говорить ни о Боге, ни о родстве, а надо уходить в метель и ночь. И я поклонился Марии Павловне — низко, в ноги, и вежливо сказал юноше: «До свиданья», — и ушел, не дожидаясь, пока пройдут эти тридцать минут.