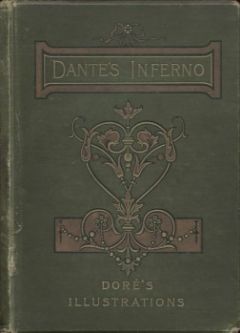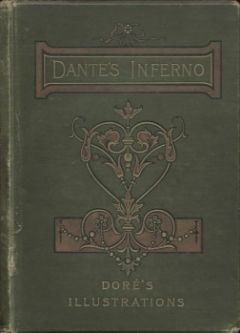Данте Алигьери - Божественная комедия
Песнь восемнадцатая
Круг восьмой (Злые Щели) — Обманувшие недоверившихся — Первый ров — Сводники и обольстители — Второй ров — Льстецы 1Есть место в преисподней. Злые Щели,
Сплошь каменное, цвета чугуна,
Как кручи, что вокруг отяготели.
Посереди зияет глубина
Широкого и темного колодца,
О коем дальше расскажу сполна.
А тот уступ, который остается,
Кольцом меж бездной и скалой лежит,
И десять впадин в нем распознается.
Каков у местности бывает вид,
Где замок, для осады укрепленный,
Снаружи стен рядами рвов обвит,
Таков и здесь был дол изборожденный;
И как от самых крепостных ворот
Ведут мосты на берег отдаленный,
Так от подножья каменных высот
Шли гребни скал чрез рвы и перекаты,
Чтоб у колодца оборвать свой ход.
Здесь опустился Герион хвостатый
И сбросил нас обоих со спины;[230]
И влево путь направил мой вожатый
Я шел, и справа были мне видны
Уже другая скорбь и казнь другая,
Какие в первом рву заключены.
Там в два ряда текла толпа нагая;
Ближайший ряд к нам направлял стопы,
А дальний — с нами, но крупней шагая.[231]
Так римляне, чтобы наплыв толпы,
В год юбилея, не привел к затору,
Разгородили мост на две тропы,
И по одной народ идет к собору,
Взгляд обращая к замковой стене,
А по другой идут навстречу, в гору.[232]
То здесь, то там в кремнистой глубине
Виднелся бес рогатый, взмахом плети
Жестоко бивший грешных по спине.
О, как проворно им удары эти
Вздымали пятки! Ни один не ждал,
Пока второй обрушится иль третий.
40
Пока я шел вперед, мой взор упал
На одного; и я воскликнул: «Где-то
Его лицом я взгляд уже питал».
Я стал, стараясь распознать, кто это,
И добрый вождь, остановясь со мной,
Нагнать его мне не чинил запрета.
Бичуемый, скрывая облик свой,
Склонил чело; но труд пропал впустую;
Я молвил: «Ты, с поникшей головой,
Когда наружность носишь не чужую, —
Венедико Каччанемико[233]. Чем
Ты заслужил приправу столь крутую?»
И он: «Я не ответил бы совсем,
Но мне твоя прямая речь велела
Припомнить мир старинный. Я был тем,
Кто постарался, чтоб Гизолабелла
Послушалась маркиза,[234] хоть и врут
Различное насчет срамного дела.
Не первый я болонец плачу тут;
Их понабилась здесь такая кипа,
Что столько языков не наберут
Меж Савеной и Рено молвить sipa;[235]
Немудрено: мы с алчностью своей
До смертного не расстаемся хрипа».
Тут некий бес, среди его речей,
Стегнул его хлыстом и огрызнулся:
«Ну, сводник! Здесь не бабы, поживей!»
Я к моему вожатому вернулся;
Пройдя немного, мы пришли туда,
Где длинный гребень от скалы тянулся.
Мы на него взобрались без труда
И с этим истязуемым народом,
Направо взяв, расстались навсегда.
И там, где гребень нависает сводом,
Чтоб дать толпе бичуемой пройти, —
Мой вождь сказал: «Постой — и мимоходом
Свои глаза на этих обрати,
Которых ты еще не видел лица,
Пока им было с нами по пути».
Под древний мост спешила вереница
Второго ряда, двигаясь на нас,
Стегаемая, как и та станица.
И вождь, не ждав вопроса этот раз,
Сказал: «Взгляни вот на того, большого:
Ему и боль не увлажняет глаз.
Как полон он величества былого!
То мудрый и отважный властелин,
Ясон, руна стяжатель золотого.
Приплыв на Лемнос средь морских пучин,
Где женщины, отринув все, что свято,
Предали смерти всех своих мужчин,
Он обманул, украсив речь богато,
Младую Гипсипилу, в свой черед
Товарок обманувшую когда-то.
Ее он бросил там понесшей плод;
За это он так и бичуем злобно,
И также за Медею казнь несет.[236]
С ним те, кто обманул ему подобно;
Про первый ров и тех, кто стиснут в нем,
Нет нужды ведать более подробно».
Достигнув места, где тропа крестом
Пересекает грань второго вала,
Чтоб дальше снова выгнуться мостом,
Мы слышали, как в ближнем рву визжала
И рылом хрюкала толпа людей
И там себя ладонями хлестала.
Откосы покрывал тягучий клей
От снизу подымавшегося чада,
Несносного для глаз и для ноздрей.
Дно скрыто глубоко внизу, и надо,
Дабы увидеть, что такое там,
Взойти на мост, где есть простор для взгляда.
Туда взошли мы, и моим глазам
Предстали толпы влипших в кал зловонный,[237]
Как будто взятый из отхожих ям.
115
Там был один, так густо отягченный
Дерьмом, что вряд ли кто бы отгадал,
Мирянин это или постриженный.
Он крикнул мне: «Ты что облюбовал
Меня из всех, кто вязнет в этой прели?»
И я в ответ: «Ведь я тебя встречал,
И кудри у тебя тогда блестели;
Я и смотрю, что тут невдалеке
Погряз Алессио Интерминелли[238]».
И он, себя темяша по башке:
«Сюда попал я из-за льстивой речи,
Которую носил на языке».
Потом мой вождь: «Нагни немного плечи, —
Промолвил мне, — и наклонись вперед,
И ты увидишь: тут вот, недалече
Себя ногтями грязными скребет
Косматая и гнусная паскуда
И то присядет, то опять вскокнет.
Фаида[239] эта, жившая средь блуда,
Сказала как-то на вопрос дружка:
«Ты мной довольна?» — «Нет, ты просто чудо!»
Но мы наш взгляд насытили пока».
Песнь девятнадцатая
О Симон-волхв[240], о присных сонм злосчастный,
Вы, что святыню божию, добра
Невесту чистую, в алчбе ужасной
Растлили ради злата и сребра,
Теперь о вас, казнимых в третьей щели,
Звенеть трубе назначена пора!
Уже над новым рвом мы одолели
Горбатый мост и прямо с высоты
На середину впадины смотрели.
О Высший Разум, как искусен ты
Горе, и долу, и в жерле проклятом,
И сколько показуешь правоты!
Повсюду, и вдоль русла, и по скатам,
Я увидал неисчислимый ряд
Округлых скважин в камне сероватом.
Они совсем такие же на взгляд,
Как те, в моем прекрасном Сан-Джованни[241],
Где таинство крещения творят.[242]
Я, отрока спасая от страданий,
В недавний год одну из них разбил:
И вот печать, в защиту от шептаний![243]
Из каждой ямы грешник шевелил
Торчащими по голени ногами,
А туловищем в камень уходил.
У всех огонь змеился над ступнями;
Все так брыкались, что крепчайший жгут
Порвался бы, не совладав с толчками.
Как если нечто маслистое жгут
И лишь поверхность пламенем задета, —
Так он от пят к ногтям скользил и тут.
«Учитель, — молвил я, — скажи, кто это,
Что корчится всех больше и оброс
Огнем такого пурпурного цвета?»[244]
И он мне: «Хочешь, чтоб тебя я снес
Вниз, той грядой, которая положе?
Он сам тебе ответит на вопрос».
И я: «Что хочешь ты, мне мило тоже;
Ты знаешь все, хотя бы я молчал;
Ты — господин, чья власть мне всех дороже».
Тогда мы вышли на четвертый вал
И, влево взяв, спустились в крутоскатый
И дырами зияющий провал.
Меня не раньше отстранил вожатый
От ребр своих, чем подойдя к тому,
Кто так ногами плакал, в яме сжатый.
«Кто б ни был ты, поверженный во тьму
Вниз головой и вкопанный, как свая,
Ответь, коль можешь», — молвил я ему.
Так духовник стоит, исповедая
Казнимого, который вновь зовет
Из-под земли, кончину отдаляя.[245]
52
«Как, Бонифаций[246], — отозвался тот, —
Ты здесь уже, ты здесь уже так рано?
На много лет, однако, список[247] врет.
Иль ты устал от роскоши и сана,
Из-за которых лучшую средь жен,[248]
На муку ей, добыл стезей обмана?»[249]
Я был как тот, кто словно пристыжен,
Когда ему немедля возразили,
А он не понял и стоит, смущен.
«Скажи ему, — промолвил мне Вергилий: —
«Нет, я не тот, не тот, кого ты ждешь».
И я ответил так, как мне внушили.
Тут грешника заколотила дрожь,
И вздох его и скорбный стон раздался:
«Тогда зачем же ты меня зовешь?
Когда, чтобы услышать, как я звался,
Ты одолеть решился этот скат,
Знай: я великой ризой облекался.
Воистину медведицей зачат,
Радея медвежатам, я так жадно
Копил добро, что сам в кошель зажат.[250]
Там, подо мной, набилось их изрядно,
Церковных торгашей, моих предтеч,
Расселинами стиснутых нещадно.
И мне придется в глубине залечь,
Сменившись тем, кого я по догадке
Сейчас назвал, ведя с тобою речь.
Но я здесь дольше обжигаю пятки,
И срок ему торчать вот так стремглав,
Сравнительно со мной, назначен краткий;
Затем что вслед, всех в скверне обогнав,
Придет с заката пастырь без закона,
И, нас покрыв, он будет только прав.[251]
Как, в Маккавейских книгах, Иасона
Лелеял царь, так и к нему щедра
Французская окажется корона».[252]
Хоть речь моя едва ль была мудра,
Но я слова привел к такому строю:
«Скажи: каких сокровищ от Петра
Ждал наш господь, прельщен ли был казною,
Когда ключи во власть ему вверял?
Он молвил лишь одно: «Иди за мною».
Петру и прочим платы не вручал
Матвей, когда то место опустело,
Которое отпавший потерял.[253]
Торчи же здесь; ты пострадал за дело;
И крепче деньги грешные храни,
С которыми на Карла шел так смело.[254]
И если бы я сердцем искони,
И даже здесь, не чтил ключей верховных,
Тебе врученных в радостные дни,
Я бы в речах излился громословных;
Вы алчностью растлили христиан,
Топча благих и вознося греховных.
Вас, пастырей, провидел Иоанн[255]
В той, что воссела на водах со славой
И деет блуд с царями многих стран;
В той, что на свет родилась семиглавой,
Десятирогой и хранила нас,
Пока ее супруг был жизни правой.[256]
Сребро и злато — ныне бог для вас;
И даже те, кто молится кумиру,
Чтят одного, вы чтите сто зараз.
О Константин, каким злосчастьем миру
Не к истине приход твой был чреват,
А этот дар твой пастырю и клиру!»[257]
Пока я пел ему на этот лад,
Он, совестью иль гневом уязвленный,
Не унимал лягающихся пят.
А вождь глядел с улыбкой благосклонной,
Как бы довольный тем, что так правдив
Звук этой речи, мной произнесенной.
Обеими руками подхватив,
Меня к груди прижал он и початым
Уже путем вернулся на обрыв;
Не утомленный бременем подъятым,
На самую дугу меня он взнес,
Четвертый вал смыкающую с пятым,
И бережно поставил на утес,
Тем бережней, что дикая стремнина
Была бы трудной тропкой и для коз;
Здесь новая открылась мне ложбина.
Песнь двадцатая