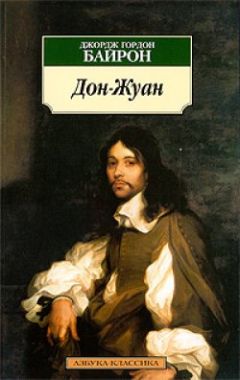Джордж Байрон - Дон Жуан
ПЕСНЬ ЧЕТВЕРТАЯ
1Поэму начинать бывает трудно,
Да и кончать задача нелегка:
Пегас несется вскачь — смотри, как чудно!
А вскинется — и сбросит седока!
Как Люцифер, упрямец безрассудный,
Мы все грешим гордынею, пока
Не занесемся выше разуменья,
Тем опровергнув наше самомненье.
Но время всех умеет примирить,
А разные напасти научают
Людей — и даже черта, может быть,
Что безграничным разум не бывает.
Лишь в юности горячей крови прыть
Стремит мечты и мысли затмевает;
Но, приближаясь к устью наших дней,
Мы думаем о сущности страстей.
Я с детства знал, что я способный малый,
И укреплял в других такое мненье;
Я заслужил, когда пора настала,
Признание и даже одобренье.
Теперь — моя весна уже увяла,
Давно огонь воображенья,
И превращает правды хладный блеск
Минувших дней романтику в бурлеск.
Теперь, когда смеюсь над чем — нибудь,
Смеюсь, чтоб не заплакать, а вздыхаю
Лишь потому, что трудно не вздохнуть!
Апатию свою оберегая,
Должны мы сердце в Лету окунуть!
Фетида, в Стиксе первенца купая,
Его оберегла от бед и зал,
Но я бы воды Леты предпочел.
Меня винят в нападках постоянно
На нравы и обычаи страны.
Из каждой строчки этого романа
Такие мысли якобы ясны.
Но я не строил никакого плана,
Да мне и планы вовсе не нужны;
Я думал быть веселым — это слово
В моих устах звучит, пожалуй, ново!
Боюсь, для здравомыслящих людей
Звучит моя поэма экзотически;
Лукавый Пульчи, милый чародеи,
Любил сей жанр ирон-сатирический
Во дни бесстрашных рыцарей и феи,
Невинных дев и власти деспотической.
Последняя найдется и у нас,
Но прочих всех давно иссяк запас.
Почти о современниках пишу я;
Правдиво ль я изображаю их?
Не повторю ль ошибку роковую
Пристрастных ненавистников моих?
И все же я не слишком негодую:
Нужна ж свобода слова и для них!
Но Аполлон меня за ухо тянет
И просит говорить о Дон-Жуане.
Оставил я героя моего
Наедине с его подругой милой.
Остановилось время для него
И на минуту косу опустило.
Оно не поощряет никого
И никогда влюбленных не любило,
Но ими любовалось от души:
Уж очень были оба хороши!
Их лиц испортить не могли морщины,
Их старость не могла бы оскорбить,
Не смела бы седая паутина
Их шелковые волосы покрыть.
В них для недуга не было причины,
В них не было того, что может гнить:
Увянуть пальма юная не может,
Ее одна лишь буря уничтожит.
Опять они одни! О, райский миг!
Наедине им скучно не бывало,
В разлуке же любовников моих
Ужасная тоска обуревала:
Так жалок усыхающий родник
И дерево, которое увяло
В разлуке с корнем; так печально — тих
Ребенок, что оторван от родных.
О, сердце, сердце! О, сосуд священный,
Сосуд тончайший! Трижды счастлив тот,
Кому рука фортуны дерзновенной
Его одним ударом разобьет!
Ни долгих лет, ни горести бессменной,
Ни тяжести утрат он не поймет,
Но жизнь, увы, цепляется упорно
За тех, кто жаждет смерти непритворно.
«Богов любимцы долго не живут!»
Сказал мудрец. Утрат они не знают,
Для них друзья и дружба не умрут,
Их юность и любовь не увядают.
В конце концов в могиле отдохнут
И те, кто слишком долго избегает
Могилы; но прекрасней доли нет,
Как сей покинуть мир во цвете лет!
Гайдэ и мой Жуан не помышляли
О смерти, ибо небо и земля
Их безмятежным светом окружали;
Холмы, долины, рощи и поля
Их молодое счастье отражали,
Как будто с ними радости деля.
В очах друг друга, в зеркале блаженства,
Они читали только совершенство.
Доверчивая юная любовь,
Сияющая кроткой благодатью,
Улыбка глаз, понятная без слов,
Восторг прикосновенья и пожатья,
Язык влюбленных птиц, язык богов,
О коем ни малейшего понятья
Нет у того, кому уже давно
Все нежное и чуждо и смешно!
Они блаженству верили, как дети,
И солнце детства улыбалось им:
Мир дел житейских в истинном их свете
Был чужд наивным душам молодым.
Как мотыльки, как альфы на рассвете,
Счастливые мгновеньем золотым,
Они любовью только и дышали
И ни часов, ни дней не замечали!
Менялись луны, созерцая их,
Их радости безмолвно освещая,
Любуясь на счастливцев молодых
И ночи их улыбкою встречая.
Ведь чувственность для чистых душ таких
Лишь часть самой любви; не пресыщает
Их обладанье — злейший враг любви,
Не охлаждая страсти в их крови.
О, дивная, о, редкая и дивная
Мечта любви, в которой сердце пьет
Блаженство наслажденья непрерывное,
Забыв уродство жизненных забот
Интриги, страсти, сплетни заунывные,
Побеги, браки, мелочный расчет,
Когда печать Гимена прикрывает
Позор, который все подозревают!
Но горьких истин и жестоких слов
Я не люблю: вернусь к чете прекрасной.
Ни дней не замечая, ни часов,
Тревогой не смущаемы напрасной,
Они цвели Десятки мудрецов
Романтикой ненужной и опасной
Зовут такую глупость, господа
(Но втайне ей завидуют всегда).
Болезненное это состоянье
От юности бывает и от чтенья;
Но и без книг невинные созданья
Покорствуют сердечному влеченью.
Он получил «святое» воспитанье,
Она не отличалась просвещеньем
И расточала нежности свои,
Как голуби весной и соловьи.
Пред ними тихий вечер догорал;
Прекрасный час, любимый час влюбленных,
Казалось, их любовь благословлял
С небес невозмутимых и бездонных:
Однажды их сердца околдовал
Подобный час и, страстью просветленных,
На несколько мгновений, может быть,
О всех и вся заставил позабыть!
Но странно — безотчетное смятенье
По их блаженству светлому прошло,
Как облака немое отраженье,
Как пламени тревожное крыло,
Как ветра незаметное движенье
На струнах арфы. Как — то тяжело
Вздохнул Жуан, охваченный тоскою,
И взор Гайдэ вдруг заблистал слезою.
Ее проникновенный ясный взгляд
Следил за исчезающем светилом,
Как будто это был весны закат,
Как будто это счастье уходило.
Жуан влюбленный, нежностью объят,
Следил за нею, и его томила
Тревога безотчетная, и ей
Печалью беспричинной был смущен.
Она Жуану тихо улыбнулась
Улыбкой, навевающей печаль,
Потом, нахмурив брови, отвернулась
И побледнела, вглядываясь в даль.
Жуан спросил: «О чем тебе взгрустнулось?»
Она ему ответила: «Мне жаль
Минувшего и жутко от сознанья,
Что не переживу я расставанья!»
Жуан хотел расспрашивать. Она
Устами губы милого закрыла
И злую тень пророческого сна
Горячим поцелуем победила.
Сей метод лучше действия вина:
пробовал целительную силу
Обоих; результаты их — увы!
Боль сердца или только головы.
Порой жестокое недомоганье
Вино и женщины приносят нам,
За радости нас облагая данью.
Какое предпочесть — не знаю сам,
Но я скажу, потомству в назиданье,
Проблему изучив по всем статьям,
Что лучше уж с обоими спознаться,
Чем ни одним из них не наслаждаться!
Счастливцы со слезами на глазах
Молчали долго, нежностью объяты;
Все чувства сочетались в их сердцах
Ребенка, друга, любящего брата.
Парили души, будто на крылах,
Восторгом страсти радостной богаты,
И счастье жить, любить и обладать
Их вдохновляло жизнь благословлять.
Зачем, соединив сердца и руки,
Не умерли влюбленные тогда?
Ни хладных лет, ни горечи разлуки
Они бы не узнали никогда!
Унылый мир жестокости и скуки
И скорбная печаль была чужда
Их нежным душам, пылким и прекрасным,
Как песни Сафо, пламенным и страстным.
Им нужно бы скрываться от людей
И петь, как соловьи в зеленой чаще,
Не ведая пороков и страстен.
Избранники свободы настоящей
Живут одни: чуждается друзей
Орел, высоко на небе парящий,
Вороны же и галки — шумный люд,
Как мы, добычу стаями клюют.
Прекрасная Гайдэ с моим Жуаном
На ложе нег вкушали сладкий сон,
Но тайную тревогу, как ни странно,
Порою ощущал невольно он.
Как ручеек в саду благоуханном,
Ее уста шептали; как бутон
Прекрасной розы, забываясь дремой,
Она дышала счастьем и истомой.
Как ветер беспокоит иногда
Поток альпийский сладким дуновеньем,
Так наших душ глубокая вода,
Встревоженная странным сновиденьем,
Таинственно томится, и тогда,
Озарена чудесным просветленьем,
Бесчувственна, но, чувством смущена,
Не глядя, видит вечное она.
Гайдэ приснилось, что в ночи туманной
Она к скале прикована. Вокруг
Ревут и воют волны океана,
Хватая жертву тысячами рук.
Вот поднялись до уст; ей душно, странно,
Ее томит мучительный испуг,
Вот захлестнули голову… О боже
Но умереть никак она не может!
Затем она как будто бы одна
Идет босая: острые каменья
Изрезали ей ноги, и она
Должна идти, идти за смутной тенью
В покрове белом; ужаса полна,
Гайдэ глядит на странное виденье:
Оно молчит, и движется вперед,
И подойти поближе не дает!
Сменился сон: пред ней пещеры своды
В уборе сталактитов ледяных;
Века и молчаливая природа
Неутомимо выточили их
Ей косы растрепала непогода,
И слезы из очей ее немых
Обильно льются на крутые скалы
И сразу превращаются в кристаллы.
И тут же, хладен, тих и недвижим
И странно бледен, как морская пена
(Когда-то словом ласковым одним
Она его будила неизменно!),
Лежал Жуан, и жалобно над ним
Рыдало море голосом сирены:
Заставить это сердце биться вновь
Уж больше не могла ее любовь!
И, странно, ей внезапно показалось,
Что облик дорогого мертвеца
Менялся — в нем как будто прояснялось
Усталое лицо ее отца
И взгляд его недобрый; испугалась
Гайдэ при виде этого лица,
Проснулась — я увидела, бледнея,
Что он, ее отец, стоит пред нею!
Она вскочила с воплем и пред ним
Упала; счастье, ужас и смятенье
Узнать того, кто прежде был любим,
А ныне стал оплаканною тенью,
Боролись в ней с отчаяньем немым
Тревоги, недоверья, опасенья
За милого. (Я тоже пережил
Подобный миг, но я его забыл.)
Услышав крик отчаянный любимой,
Проснулся мой прекрасный Дон-Жуан
И, храбростью горя неукротимой
Схватил тотчас же острый ятаган
Но Ламбро, до поры невозмутимый,
Сказал с презреньем' «Глупый мальчуган!
Смирить твою отвагу озорную
Десятку сотен сабель прикажу я!»
Но тут Гайдэ воскликнула опять
«Ведь это мой отец! О, „милый, милый
Ему я ноги буду целовать
Он нас простит, как небо лас простило
Отец! Позволь судьбу благословлять,
Которая тебя нам возвратила!
Сорви обиду сердца своего
На мне одной, но пощади его!“
Старик стоял спокоен, строг и прям,
Его глаза светились странным светом.
Я думаю, он был взволнован сам
И медлил с окончательным ответом.
Наш юный друг, и вспыльчив и упрям,
Хотел блеснуть отвагой в деле этом;
Он за себя решился постоять
И собирался с честью умирать.
„Отдай оружье!“ — Ламбро молвил строго.
Жуан сказал: „Без боя не отдам!“
Старик суровый побледнел немного
И возразил: „Тогда смотри ты сам,
За кровь твою я не отвечу богу!“
И тут, от слов переходя к делам,
Свой пистолет он вынул из кармана
И взвел курок, прицелясь в Дон-Жуана.
Как странно звук взведенного курка
Внимательное ухо поражает,
Когда, прищурясь, нас издалека
Приятель у барьера поджидает,
Где нас от рокового тупика
Едва двенадцать ярдов отделяют!
Но кто имел дуэлей больше двух,
Тот потеряет утонченный слух.
Нацелился пират; еще мгновенье
И роковой конец бы наступил
И песне и Жуану, без сомненья
Но крик Гайдэ отца остановил:
„Виновна я! Убей без сожаленья
Меня одну! Он вовсе не просил
Моей любви! Смотри! Его люблю я!
Как ты, бесстрашна я, и с ним умру я!“
Вот только что бессильно перед ним
Она слезами горькими рыдала,
Но он молчал, угрюм и недвижим.
И вот она опомнилась и встала,
Бледна, стройна, строга, как серафим
Разгневанный. Теперь она сияла
Отвагой; взор ее ужасен был,
Но руку Ламбро не остановил.
Так друг на друга черными очами
Они глядели молча; что за сходство!
В неукротимом взоре то же пламя,
В осанке та же сила превосходства.
Он был упрям, она — еще упрямей.
В ней сказывалось крови благородство
Так может гнев и жажда отомстить
Ручную львицу вмиг преобразить.
Их сходство проявлялось и в повадке,
И в блеске глаз, и даже в форме рук,
Они имели те же недостатки
И те же добродетели — и вдруг
Все вспыхнуло в жестокой этой схватке:,
Ведь ни один привычный светлый звук
Ни милые слова, ни слезы счастья
Немыслимы, когда бушуют страсти.
Отец угрюмый помолчал немного.
Потом, смотря на дочь, заговорил:
„Не я ему показывал дорогу,
Не я ему несчастье причинил!
Свидетель бог, я поступил не строго:
Никто б такой обиды не простил,
Не совершив убийства. Все деянья
Влекут награду или наказанье!
Пускай он сдастся! Или я готов
Тебе поклясться этой головою,
Что голову его, не тратя слов,
Снесу вот этой самою рукою!“
Тут свистнул он, и двадцать молодцов
Покорною, но шумною толпою
Вбежали. Он сказал им „Мой приказ:
Схватить или убить его тотчас!“
К себе рванул он дочь, ей руку сжав,
Меж тем Жуана стража окружила,
Осиным роем на него напав
Напрасно билась, напрягая силы,
Гайде я руках отца, как злой удав,
Ее держал он. От нее закрыла
Жуана стая хищников, но он
Еще боролся, битвой увлечен.
Один бежал с разбитой головою,
Другой упал с разрубленным плечом,
Но третий ловко вашего героя
Ударил быстро вынутым ножом:
И тут уж все накинулись гурьбою
На юношу. Кровь полилась ручьем
Из нанесенной ятаганом раны
На голове несчастного Жуана.
Они его связали в тот же миг
И унесли из комнаты. Тогда же
Им подал знак безжалостный старик,
И мой красавец под надзором — стражи
Был переправлен на пиратский бриг,
Где был он в трюм немедленно посажен,
И строго приказали часовым
Неутомимо наблюдать за ним.
Как странен мир, читатель дорогой!
Признаться, мне ужасно неприятно,
Что человек богатый, молодой,
Красивый, и воспитанный, и знатный.
Изранен, связан буйною толпой
И, по капризу воли непонятной,
Отправлен в море только оттого,
Что полюбила девушка его!
Но я почти в патетику впадаю,
Растроганный китайской нимфой слез,
Лирической Кассандрой — музой чая!
Я раскисаю, как молокосос,
Когда четыре чашки выпиваю!
Но чем же утешаться, вот вопрос?
Мне вина, несомненно, не под силу,
А чай и кофе — чересчур унылы,
Когда не оживляет их Коньяк
Прелестная наяда Флегетона.
Увы! Ее пленительных атак
Не терпит мой желудок воспаленный!
Я прибегаю к пуншу: как — никак
Довольно слаб сей друг неугомонный
Бесед полночных, но и он подчас
Недомоганьем наделяет нас!
Оставил я несчастного Жуана
Израненным, страдающим уныло,
Но не сравнится боль телесной раны
С отчаяньем Гайдэ; ведь не под силу
Таким сердцам смиряться пред тираном.
Из Феса мать ее происходила
Из той страны, где, как известно всем,
Соседствуют пустыня и Эдем.
Там осеняют мощные оливы
Обложенные мрамором фонтаны,
Там по пустыне выжженной, тоскливой
Идут верблюдов сонных караваны,
Там львы рычат, там блещет прихотливо
Цветов и трав наряд благоуханный,
Там древо смерти источает яд,
Там человек преступен — или свят!
Горячим солнцем Африки природа
Причудливая там сотворена,
И кровь ее горячего народа
Игрой добра и зла накалена.
И мать Гайдэ была такой породы:
Ее очей прекрасных глубина
Таила силу страсти настоящей,
Дремавшую, как лев в зеленой чаще.
Конечно, дочь ее была нежней:
Она спокойной грацией сияла;
Как облака прекрасных летних дней,
Она грозу безмолвно накопляла;
Она казалась кроткой, но и в ней,
Как пламя, сила тайная дремала
И, как самум, могла прорваться вдруг,
Губя и разрушая все вокруг.
В последний раз видала Дон-Жуана
Гайдэ поверженным, лишенным сил,
Видала кровь, текущую из раны
На тот же пол, где только что ходил
Ее Жуан, прекрасный и желанный!
Ужасный стон ей кровь заледенил,
Она в руках отца затрепетала
И, словно кедр надломленный, упала.
В ней что — то оборвалось, как струна.
Ей губы пеной алою покрыла
Густая кровь. Бессильная, она
И голову и руки опустила,
Как сломанная лилия, бледна:
Напрасна трав целительная сила
В подобный миг, когда уже навек
Теряет связи с жизнью человек.
И так она лежала много дней,
Безжизненная, словно не дышала,
Но смерть как будто медлила — и в ней
Уродство тленья все не проступало
И на лицо причудливых теней
Не налагало, светлое начало
Прекрасной жизни, юная душа,
В ней оставалась нежно — хороша.
Как в мраморном бессмертном изваянье,
Одна лишь скорбь навек застыла в ней,
Так мраморной Киприды обаянье
От вечности своей еще нежней.
Лаокоона страстные терзанья
Прославлены подвижностью своей,
И образ гладиатора страдающий
Живет в веках, бессмертно умирающий.
И вот она очнулась наконец,
Но странное то было пробужденье:
Так к жизни пробуждается мертвец;
Ему все чуждо. Ни одно явленье
Уже не воскресит таких сердец,
В которых только боли впечатленье
Еще осталось — смутное пока.
На, миг вздремнула Фурия — тоска.
Увы, на все она глядела лица
Бесчувственно, не различая их,
Была не в силах даже удивиться,
Не спрашивала даже о родных;
В ней даже сил уж не было томиться;
Ни болтовня подруг ее былых,
Ни ласки их — ничто не воскресило
В ней чувств, уже сроднившихся с могилой.
Она своих не замечала слуг,
И на отца как будто не глядела,
Не узнавала никого вокруг
И ничего уж больше не хотела.
Беспамятство — причудливый недуг
Над нею, как заклятье, тяготело.
И только иногда в ее глазах
Являлась тень сознанья, боль и страх!
Арфиста как-то а комнату позвали;
Настраивал довольно долго он
Свой инструмент, и на него вначале
Был взор ее тревожный устремлен.
Потом, как будто прячась от печали,
Она уткнулась в стенку, словно стон
Тая. А он запел о днях далеких,
Когда тиранов не было жестоких.
Такт песни отбивала по стене
Она устало пальцами. Но вскоре
Запел арфист о солнце, о весне
И о любви. Воспоминаний море
Открылось перед нею, как во сне,
Вся страсть, все счастье, все смятенье горя,
И хлынула из тучи смутных грез
Потоком горным буря горьких слез.
Но были то не слезы облегченья:
Они взметнули вихрь в мозгу больном,
Несчастная вскочила и в смятенье,
На всех бросаясь в бешенстве слепом,
Без выкриков, без воплей, в исступленье.
Метаться стала в ужасе. Потом
Ее связать пытались, даже били,
Но средств ее смирить не находил».
В ней память лишь мерцала; тяжело
И смутно в ней роились ощущенья;
Ничто ее заставить не могло
Взглянуть в лицо отца хоть на мгновенье.
Меж тем на все вокруг она светло
Глядела в бредовом недоуменье,
Но день за днем не ела, не пила
И, главное, ни часу не спала.
Двенадцать дней, бессильно увядая,
Она томилась так — и как-то вдруг
Без стонов наконец душа младая
Ушла навек, закончив жизни круг
И вряд ли кто, за нею наблюдая,
Из нежных опечаленных подруг
Заметил миг, когда застыли веки
И взора блеск остекленел навеки.
Так умерла она — и не одна:
В ней новой жизни брезжило начало,
Дитя греха, безгрешное, весна,
Которая весны не увидала
И в землю вновь ушла, не рождена,
Туда, где все, что смято, что увяло,
Лежит, — и тщетно свет свой небо шлет
На мертвый сей цветок и мертвый плод!
Конец всему! Уж никогда отныне
Не прикоснутся к ней печаль и стыд,
Не суждено ей было, как рабыне,
Сносить года страданий и обид!
Прекрасен был, как неба купол синий,
Ее блаженства краткого зенит,
И мирно спит она во тьме могилы
На берегу, где отдыхать любила.
И остров этот стал угрюм и тих:
Безлюдные жилища исчезают,
Лишь две могилы средь лугов пустых
Пришельцу иногда напоминают
О ней и об отце ее, но их
Никто не ищет и не замечает,
Лишь волны гимном траурным гремят,
Скорбя о ней — красавице Циклад.
Но греческиe девушки порой
Ее со вздохом в песне поминают,
Да, коротая ночь, старик иной
Ее отца рассказом воскрешает:
Его отвагой и ее красой
Туманные легенды наполняет
О том, что мстит любовь себе самой,
Платя за счастье страшною ценой.
Но бросим эту тему тем не менее.
Безумных я описывать боюсь,
По правде говоря — из опасения,
Что тронутым и сам я покажусь!
Притом весьма — капризное творение
Моя подруга муза; я вернусь
К Жуану: он, захваченный врагами,
Октав уж двадцать как оставлен нами.
Изранен, «связан, скован, заточен»,
Два дня лежал Жуан, с судьбой не споря,
На третий день совсем очнулся он
И увидал себя в открытом море.
Вдали синел священный Илион,
Но мой герой в таком был сильном горе,
Что Илион а видеть не хотел
И на сигейский мыс не поглядел.
Над Геллеспонтом — символ гордой силы,
Надменно озирая острова,
Стоит курган бесстрашного Ахилла,
Гипотеза ученых такова!
А рядом — неизвестная могила;
Кого — о том не ведает молва.
(Когда б герои эти живы были,
Они бы всех живущих перебили!)
Равнины невозделанный простор,
Курганы без надгробий, без названья,
Вершина Иды над цепями гор
И берегов Скамандра очертанья;
Здесь обитала Слава с давних пор,
Здесь древности покоются преданья.
Но кто тревожит Илиона прах?
Стада овец и сонных черепах!
Печальные селенья, кипарисы,
В пустынном поле — ржанье табунов;
Пастух, едва ль похожий на Париса,
Глазеет на проезжих болтунов,
Мечтающих о родине Улисса
Со школьных лет. И, набожно-суров,
Повсюду турок с трубкой восседает;
Ну, а фригийцы где? А черт их знает!
Итак, Жуан печально созерцал,
Удел раба предчувствуя уныло,
Лазурь морскую, и уступы скал,
И греков горделивые могилы.
Вопросов он пока не задавал,
Его потеря крови изнурила,
Да и ответы стражи для него
Не значили бы ровно ничего.
Он увидал товарищей по плену,
Артистов — итальянцев молодых;
Они — то рассказали откровенно
Подробности превратностей своих:
Как водится, в Сицилию на сцену
Спешила из Ливорно труппа их.
Их продал импресарио пирату
И взял за это небольшую плату!
Один из них особенно болтал;
Он buffo[24] был и buffo оставался,
Он искренне, сердечно хохотал
И беззаботным комиком держался;
Он распродажи пленных ожидал
И в шуточках веселых изощрялся,
Меж тем как тенор сумрачно грустил,
А примадонна выбилась из сил.
«Однажды ночью, — комик говорил,
Макиавелли сей, наш импресарио,
Сигналом чей — то бриг остановил
У берега: Corpo di Caio Mario![25]
Потом нас на корабль пересадил,
Без всякого намека на salario;[26]
Но если любит пение султан,
То мы легко наполним свои карман!
Конечно, примадонна старовата,
И хрипоте подвержена подчас,
И стала петь, пожалуй, плоховато;
Зато подруга тенора у нас
Одарена природою богато;
Она на карнавале прошлый раз
Отбила графа юного Чиконья
У старой принчипессы из Болоньи!
Хорош у нас балетный персонал:
Пленяет всеми качествами Нини,
Пятьсот цехинов прошлый карнавал
Доставил хохотушке Пелегрини.
(Нетрудно столь ничтожный капитал
Растратить беззаботной балерине!)
А вот гротеска — эта бы могла
Очаровать я души и тела!
Солисткам фигурантки уступают,
Но миленькие личики и тут
Невольно покупателей меняют
И сбыт на рынке, видимо, найдут!
Одна, положим, шест напоминает,
Хоть в ней талант я чувства признают,
Но с этакой фигурой где же взяться
Изяществу, чтоб в танцах отличаться?
Мужчин у нас хороших нет совсем;
У musico[27] вот голос петушиный
(Конечно, бас дается нам не всем,
И есть тому особые причины),
Но евнухом устроиться в гарем
Способен сей талантливый мужчина,
Хоть папа третий пол всегда ценил,
Но петь любимцев он не научил.
У тенора — излишек аффектации,
А бас, как бык, рычит и завывает,
Не признает ни нот, ни пунктуации;
Хоть наша примадонна замечает
В нем редкое богатство интонации,
Однако точно так же распевает,
Тревожа мирный сон полей и сел.
Рулады исполняющий осел.
Не позволяет сдержанность моя
Упоминать о собственном таланте,
Но вы видали чуждые края
И слышали вы имя Раукоканти?
Так знайте: Раукоканти — это я!
Когда вы в Луго будете, достаньте
Себе билет, и небом поклянусь,
Еще я перед вами отличусь.
Наш баритон — заносчивый мальчишка,
Играет плохо, не умеет петь,
Но искренне уверен, хвастунишка,
Что мог бы в целом мире прогреметь!
Едва годится слабый голосишко
Для уличного пенья! Жаль смотреть!
Изображая страсть и муки ада,
Зубами он скрежещет без пощады!»
Здесь Раукоканти пламенный рассказ
Нарушило пиратов появленье,
И пленники услышали приказ
Спуститься в трюм. Со вздохом сожаленья
Увидели они в последний раз
Под ясным небом в дымке отдаленья
Веселый танец ярко-голубых
Свободных и счастливых волн морских.
Затем сказали им, что в Дарданеллы
Придет его величества фирман
(Без коего не обойдется дело
В стране богохранимой мусульман!)
Там закуют их прочно и умело
И повезут, как стаю обезьян,
В Константинополь, где раба на рынке
Купить и выбрать легче, чем ботинки!
Когда попарно их сковали всех:
С мужчинами мужчин, а даму с дамой,
Нечетными остались, как на грех
(Игра судьбы капризной и упрямой),
Мой бедный Дон-Жуан и… (право, смех!
Порою шутка совместима с драмой!)
Цветущая красотка: мой герой
Прикован был к вакханке молодой!
К несчастью, Раукоканти поместили
В одной упряжке с тенором: они
Друг друга, несомненно, не любили
На сцене все враждуют искони!
Но эти двое дня не проводили
Без ярых словопрений, хоть сродни
Они друг другу были почему — то:
«Arcades ambo»,[28] id est[29] — оба плуты!
Партнершею героя моего
Была красотка родом из Анконы,
Прекрасное, живое существо,
В отличном смысле слова «bella donna».[30]
Во всех улыбках — блеск и торжество,
Глаза черны как уголь и бездонны,
И каждое движенье, каждый взгляд
Залог неописуемых услад!
Но тщетно эти прелести взывали
К печальному Жуану словно мгла,
Ему глаза н сердце застилали
Тоска и боль, руки его не жгла
Ее рука, его не волновали
Прикосновенья, полные тепла,
Ее округлых плеч и рук прекрасных,
Для молодых людей всегда опасных!
В анализ углубляться нам не след,
Но факт есть факт. Жуан был сердцем верен
Возлюбленной своей. На свете нет
Такой любви — уж в этом я уверен!
«Мечтами о снегах, — гласит поэт,
Жар пламени не может быть умерен».
Но мой герой страдал, и мукой он
Был от греховных мыслей защищен.
Здесь мог бы я увлечься описаньем,
Не слишком скромным. В юности моей
Я избегал с особенным стараньем
Такого искушения, ей-ей!
Но критика злорадным замечаньем
Меня тревожит якобы скорей
Протиснется верблюд в ушко игольное
Чем мой роман в семейство богомольнее!
Но все равно — уступчив нравом я!
Я знаю: Смоллет, Прайор, Ариосто
И Фильдинг — эта славная семья
Стеснялись мало, выражались просто
Вести войну словесную, друзья,
Умел и я, провозглашая тосты
Задорные, противников дразнить
И беззаботно ссоры заводить.
Я был драчлив, — мальчишки любят драки!
Но ныне становлюсь миролюбив:
Пускай шумят и спорят забияки!
Пройдет ли мои успех, пока я жив,
Иль сохранится, как маяк во мраке,
Густой туман столетий победив,
Шуршанье трав в полночный час унылый
Не прекратится над моей могилой.
Поэты, нам известные сейчас,
Избранниками славы и преданья
Живут среди людей один лишь раз,
Но имени великого звучанье
Столетий двадцать катится до вас,
Как снежный ком. Чем больше расстоянье,
Тем больше глыба, но она всегда
Не что иное, как скопленье льда.
Увы, читатель, слава номинальна,
И номиналы славных имена:
Невоскресимый прах молчит печально,
Ему, наверно, слава не нужна.
Все погибает слепо я фатально
Ахилл зарыт, н Троя сожжена,
И будущего новые герои
Забудут Рим, как мы забыли Трою.
Сметает время даже имена
Великих дел; могилу ждет могила.
Весну сменяет новая весна,
Века бледнеют, все теряет силы,
Бесчисленных надгробий имена
Становятся безжизненно — унылы
С теченьем лет, и так же, как живых,
Пучина смерти поглощает их.
Нередко я вечернею порою
Смотрю на холм с надломленной колонной
И вспоминаю юношу — героя:
Как умер он, прекрасно вдохновленный
Своею славой. Как он жил борьбою
Равенны, благородно — возмущенной!
О, юный де Фуа! И он — и он
На скорое забвенье обречен!
Обычно все могилу посещают,
Где Данта прах покоится смиренно;
Ее священным нимбом окружает
Почтенье обитателей Равенны,
Но будет время — память обветшает,
И том терцин, для нас еще священный,
Утонет в Лете, где погребены
Певцы для нас безгласной старины
Все памятники кровью освящаются,
Но скоро человеческая грязь
К ним пристает — и чернь уж их чуждается.
Над собственною мерзостью глумясь!
Ищейки за трофеями гоняются
В болоте крови. Славы напилась
Земля на славу, и ее трофеи
Видений ада Дантова страшнее!
Но барды есть! Конечно, слава — дым,
Хоть люди любят запах фимиама:
Неукротимым склонностям таким
Поют хвалы и воздвигают храмы.
Воюют волны с берегом крутым
И в пену превращаются упрямо.
Так наши мысли, страсти и грехи,
Сгорев, преображаются в стихи.
Но если вы немало испытали
Сомнений, приключений и страстей,
Тревоги и превратности познали
И разгадали с горечью людей,
И если вы способны все печали
Изобразить в стихах, как чародей,
То все же не касайтесь этой темы;
Пускай уж мир лишается поэмы!
О вы, чулки небесной синевы,
Пред кем дрожит несмелый литератор,
Поэма погибает, если вы
Не огласите ваше «imprimatur».[31]
В обертку превратит ее, увы,
Парнасской славы бойкий арендатор!
Ах, буду ль я обласкан невзначай
И приглашен на ваш Кастальский чай?
А разве «львом» я быть не в силах боле?
Домашним бардом, баловнем балов?
Как Йорика скворец, томясь в неволе,
Вздыхаю я, что жребия мой суров;
Как Вордсворт, я взропщу о грустной доле
Моих никем не читанных стихов;
Воскликну я: «Лишились вкуса все вы!»
Что слава? Лотерея старой девы!
Глубокой, темной, дивной синевой
Нас небеса ласкают благосклонно
Как синие чулки, чей ум живой
Блистает в центре каждого салона!
Клянусь моей беспечной головой,
Подвязки я видал того же тона
На левых икрах знатных англичан;
Подвязки эти — власти талисман!
За то, что вы, небесные созданья,
Читаете поэмы и стишки,
Я опровергну глупое преданье,
Что носите вы синие чулки!
Не всякую натуру портит знанье,
Не все богини нравом столь жестки:
Одна весьма ученая девица
Прекрасна и… глупа, как голубица.
Скиталец мудрый Гумбольдт, говорят
(Когда и где — потомству неизвестно),
Придумал небывалый аппарат
Для измеренья синевы небесной
И плотности ее. Я буду рад
Измерить — это очень интересно
Вас, о миледи Дафна, ибо вы
Слывете совершенством синевы!
Но возвращаюсь к нашему рассказу.
В Константинополь пленников привез
Пиратский бриг. На якорь стал он сразу.
Ему местечко в гавани нашлось.
Чумы, холеры и другой заразы
В столицу он как будто не занес,
Доставив на большой стамбульский рынок
Черкешенок, славянок и грузинок.
Иных ценили дорого: одна
Черкешенка, с ручательством бесспорным
Невинности, была оценена
В пятнадцать сотен долларов. Проворно
Ей цену набавляли, и цена
Росла; купец накидывал упорно,
Входя в азарт, пока не угадал,
Что сам султан девицу покупал.
Двенадцать негритянок помоложе
Довольно высоко ценились тут.
Увы, освобожденных чернокожих,
На горе Уилберфорсу продают,
Притом теперь значительно дороже!
(С пороком воевать — напрасный труд!
Порок больших расходов не боится.
А добродетель чахнет — и скупится!)
У каждого особая судьба:
Кого купил паша, кого — евреи,
Кто примирился с участью раба,
Кто утвердился в должности лакея,
А женщины — ведь женщина слаба
Надеялись достаться поскорее
Нестарому визирю и мечтать
Его женой или рабыней стать!
Но позже все подробно расскажу я,
Все приключенья точно передам.
Пока перо на время отложу я;
Глава длинна, я понимаю сам;
Я сам на многословье негодую,
Но докучаю вежливым друзьям.
Теперь пора: оставим Дон-Жуана,
Как Оссиан, «до пятого дуана».
ПЕСНЬ ПЯТАЯ