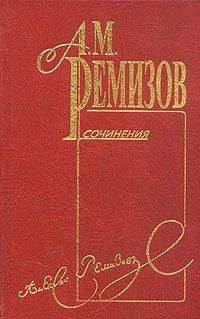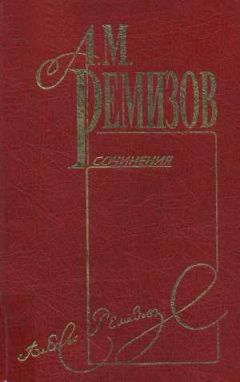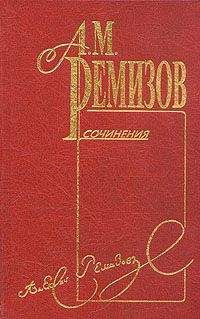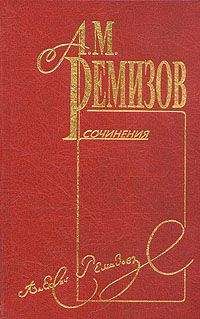Алексей Ремизов - Избранное
ПОВЕЛИ В СОВДЕП
Захлестнулось – теперь никуда! – иду, как на аркане, и странно, как по воздуху, вот настолечко от земли! – фонарь – в фонаре свистит, ишь, запутался в трамвайной проволоке, ну! —
забегает – забегает – —
нет, не поддается!
– – да хлоп комок под ноги!
и ускакал.
Идем по трамвайным рельсам. Снег в глаза, а не холодно. Еще бы холодно!
– Куда?
Молчит.
Я оглянулся: а за спиной черно – черной стеной закрывает.
ПОД ЛЕСТНИЦЕЙ В СОВДЕПЕ У ПЕЧКИ
– Придется подождать: приведут еще товарища!
Это сказал не тот, который меня вел, – тот, как
снежок, прыгнул в метель – это другой.
Я забился в угол головой под лестницу. Между мною и моим стражем прислонена к лавке винтовка. Он подбросил полено в раскрасневшуюся печку – и красным пыхнуло жаром.
Он – рабочий с Трубочного завода, а я – —
– Саботажник?
– Нет.
– —?!
Недоверчивым глазом посмотрел на меня вполуоборот и так недоверчиво-подозрительно и остался, а другой его глаз туда – в метельную темь.
«в этом доме до Совдепа жил Ф. К. Сологуб, и сюда под лестницу засидевшиеся гости спускались будить швейцара и нетерпеливо ждали, когда швейцар крякнет —»
– Ведут!
Громко, без стеснения, распахнулась дверь —
К. С. Петров-Водкин!
Я ему очень обрадовался.
Съежившийся, растерянно смотрел он из шубы, еще бы! ведь всю-то дорогу, как вели его, он себе представлял, что ведут его на расстрел – «китайцы будут расстреливать!» – ив предсмертные минуты он вспомнил все свои обложки и заглавные буквы и марки, нарисованные им для
«Скифов» и «Знамени борьбы» – —
И вот вместо «китайцев» – я:
– Козьма Сергеевич!
– Трубку потерял, – сказал он, обшариваясь, и не находя.
Нас вели по знакомой лестнице – всё вверх – «к Сологубу».
У «СОЛОГУБА»
Ничего не видно
– храп – и ползет —
Присели к столику, закурили и ни гугу. В двери окошечко – жаркой свет. За дверью шумели «китайцы», потом «китайцы» по-немецки стали разговаривать, а потом «китайцы» замолкли —
– храп – и ползет —
«– мы сидим в «зале у Сологуба», и мне ясно представился последний вечер у Сологуба на этой квартире: елка – тесно – какой-то пляшет вокруг елки, а елка вот тут, где сейчас мы сидим у столика.
«Кто этот молодой человек?» – спрашивает меня Е. В. Аничков.
А я и не знаю и говорю наобум: «Дураков!»
Артур Лурье и с ним Л. Добронравов у стенки там – а там М. А. Кузмин, О. А. Глебова-Судейкина, Тэффи – – А вот и сам Павел Елисеевич Щеголев; а за ним П. Я. Рыс, а за Рысом на комариных ножках С. А. Адрианов —» – храп – и ползет – —
Чья-то рука пошарила по столику. Ловко, как из отрывного календаря, оторванула – на столике книга! – и во тьме загорелся еще огонек.
«Беда, – подумал я, – коли надобность выйти!»
А какой-то, восставший из тьмы, стучал в дверь «китайцам» – а «китайцы» как вымерли. Так несчастный и откулачился от двери и упал во тьму.
И мы, обкурившись, опустились на пол.
И сон – и сквозь сон пить хочется! – сном затянулся, как папироской, беспамятно —
– – – – – – – – – —
и вдруг – распахнулась дверь и остренький тощенький, вскоча в комнату, затаратал, как будильник.
И я сразу проснулся.
ПОУТРУ
Да нас тут набилось – целый клоповник!
здесь сидел Иван Степанов Петров лошадь из пчелы за спикуляцию
– – спекуляция? – говорит какой-то со сна с
перемычками. Что такое спекуляция?
– – обольем тебя водой и заморозим – это спекуляция!
Яшка Трепач
чека – лка
– – свобода! она хороша, когда есть своя голова; а голова не то, чтоб была она свободная, а как сказать, настоящая голова, а не пыльный мешок.
– – натравливают, ну и каждый делается, как собака.
– – клюет свинство.
Поздравителям 1918 года:
б. полотеру – 2 р.
б. швейцару – 5 р.
б. водопроводчику – 1р.
б. трубочисту – 1р.
– – волки и те стадом ходят!
– – вчера заставили дрова носить.
– – тоже и воду, и прибрать все надо.
Осмотрел я стену, исписанную и карандашом и углем и мелом: телефоны, фамилии и всякие «нужные» и так изречения и «на память». И опять к столику, где ночью сидели. Тут и Петров-Водкин поднялся.
– Трубку потерял! – тужил он, никак не мог забыть.
Я взял со стола растерзанную книгу, служившую как отрывной календарь, – и сразу же узнал: это мои «Крестовые сестры».
– «Крестовые сестры»! – показал я Петрову-Водкину.
Но он ничего не ответил.
А я ничего не подумал – а прежде бы подумал, да еще как! – я положил книгу назад на столик.
Хотелось мне списать со стены, а из «Крестовых сестер» выдрать страницу пожалел; на полу валялся примятый листок – на нем Петров-Водкин ночевал, вот на нем —
Яшка Трепач принес что-то вроде кипятку – Яшка Трепач староста! – но пить не из чего было.
– Скажите, пожалуйста, – обратились мы оба к Яшке, – долго нам тут сидеть?
– Если на Гороховую не затребуют, засядете надолго.
– Может, нас, как заложников, тут оставят? – в один голос сказали мы Яшке.
– Заложников? – Яшка окинул нас веселым глазом. – Такую дрянь!
Вошел «китаец» и сказал чистым русским языком:
– Которых привели ночью – —?
Мы с Петровым-Водкиным выступили.
– Заложники! – поддал Яшка. – Ну и народ!
– Нет ли хлебца? – остановил ледящий, которого вчера заставили дрова таскать на 6-ой этаж.
– Хлеб не отдавай? – окрикнул кто-то вдогон. – С Гороховой скоро не выпустят.
А когда мы с «китайцем» выходили из «залы Сологуба», в проходе столкнулись со Штейнбергом и Лемке: они ночевали в «кабинете Сологуба» —
Штейнберг – в женской шубе,
Лемке – с таким вот чемоданом, какие только в багаж сдают.
В СЛЕДСТВЕННОЙ КОМИССИИ
Нас принял тощенький остренький – я сразу его узнал, это тот, что во сне мне приснился: вбежал в камеру и затаратал, как будильник. Он отобрал у нас документы: паспортные книжки и удостоверения на всякие права.
Получить удостоверение – это большая работа, и я очень забеспокоился.
– Прошу вас, не потеряйте!
– Не беспокойтесь: поведут на Гороховую, отдам.
И он стал звонить на Гороховую, ему отвечали и не отвечали.
А он все звонил.
– Товарищ Золотарь, неуёмная головка! – заметил который-то из стражи, ну, конечно, никакой не китаец, а самый наш откуда-нибудь с Трубочного завода.
Мы сидим перед столом в ряд:
Штейнберг в женской шубе,
Петров-Водкин – из шубы,
Лемке – с чемоданом, какие только в багаж сдают,
и я с узелком.
– Шесть месяцев в Кронштадте сидел, – объясняет Лемке, не выпуская из рук чемодана, – знаю по опыту.
На столе у товарища Золотаря огромная фарфоровая голубая лягушка – стоит она на задних лапках, «служит».
Я смотрю на эту голубую, ни на что не похожую, лягушку, и почему-то вспоминается мне такой нравоучительный рассказ из «Азбуки для самых маленьких», и я повторяю слова:
«– – пролил Лука чернила – плакал Лука»;
«– – съел Лука муху – плакал Лука»;
«– – кувыркнулся Лука со стула, стукнулся
головой об пол – плакал Лука»;
«– схватил Лука огонь, обжег пальцы – плакал Лука»;
– – —
А Золотарь звонит.
ПОВЕЛИ НА ГОРОХОВУЮ
«– – окруженный кольцом вооруженных до зубов чекистов – —»
И действительно, стражи набралось что-то немало: и милиционеры, и красноармейцы, и еще с Гороховой какие-то. Но должно быть, все это только для виду – опытный глаз Яшки Трепача не ошибался! – нас посадили в трамвай, на прицепной. И везли до самой Гороховой на трамвае. А от трамвая шли мы врассыпную.
И это совсем не то – не та картина! – и, встретя, никто не сказал бы про нас, как недавно еще говорили про «книгочия василеостровского», встретив его на Большом проспекте, окруженного матросами: вел он матросов показывать Публичную библиотеку:
«Якова Петровича, – говорили с сокрушением, – видели, говорят, на Большом проспекте, борода развевается: вели его, несчастного, матросы расстреливать!»
ПО ЛЕСТНИЦЕ НА ГОРОХОВОЙ
Когда я поднимался по сводчатой лестнице мимо подстерегающих пулеметов, я представлял себе, что может чувствовать человек, никогда не проходивший ни через какие лестницы, ни в какие тюрьмы —
а ведь кажется, никого не оставалось из живущих в Петербурге, кому не суждено было за эти годы пройти через сыпняк или по этой лестнице!
Какие страхи мерещились несчастным, застигнутым нежданно-негаданно судьбою, и какой страх гнался и цапал со всех сторон, и не пулеметы, а сами нюренбергские бутафорские машины и снаряды пыток лезли в глаза, цепляя, вывертывая и вытягивая.