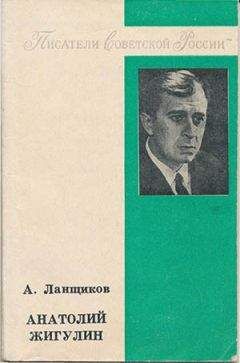Анатолий Бергер - Продрогшие созвездия
Рузаевку проехали, меня не высадили. Я и рад, быстрее на место. Получил снова сухим пайком. Следующая остановка — Челябинск. Снова воронок, стакан, и началось кружение по улицам. Сквозь щёлку мелькали дома, кузова грузовиков, фигуры пешеходов. Потом замелькали домики, заборы. Заброшенным, худородным показался Челябинск из воронка. Наконец, подвезли к тюрьме, где-то, видимо, на окраине города, кинули в отстойник (тюремный распределитель). Я стоял у стены среди других зэков. Остальные бродили туда-сюда от параши к двери, кое-кто сидел на корточках у стены. Я обратил внимание на одного, он сидел прямо на полу, в кулаке у него был зажат хлебный мякиш и он ел его прямо из кулака. По жирному чернявому лицу его была размазана дряблая улыбка. Зэки, ходившие мимо, косились на него, что-то говорили по его адресу. Я спросил, кто это. «А это Галька, сука, мы её под нары в вагоне загнали. Ишь, хлеб жрёт с пола обоссанного, у, мразь, противная, гнида». «Как Галька?» — спросил я. «Ну, Генка она, петух это, мы её на х… насаживали в зоне». Я наконец живьём видел педераста, по-лагерному — петуха. (Стукачей, между прочим, зовут козлами — причём тут бедные животные, не знаю). А то, что я видел перед собой сейчас, было не человек, но что-то жидкое, склизкое, словно бы грязь на полу. Ужаснее в жизни своей я ничего не встречал. Вот что могут люди сделать с людьми! Этот несчастный толстозадый парень был в лагере проигран в карты, или продался за кусок сала, или был попросту изнасилован, — всё бывает у бытовиков. Человека ночью хватают с постели, насилуют, и он отныне — пария, подтирка для остальных. У педерастов в лагере особые секции, свой стол в столовой, свои миски и ложки, на этапе они под нарами и не смеют нос высунуть, пока их не позовут. Администрация знает об этом, но мер не предпринимает никаких. Это происходит и по сей день, и сию минуту. Гнусный блатной мир — будь ты проклят! Все эти «суки ссученные», «падлы позорные», которые грозятся остальным всем «шнифты выстеклить», «жопу на свастику порвать»… Ну вот, вывели из отстойника, повели…
В тюрьме первым делом шмон. Маленький капитан с квадратными ушами и коротким носом придирчиво рылся в моих нехитрых пожитках. Я заявил о своей статье, о том, что положено меня содержать отдельно. Он злобно закричал: «Не хочешь с людьми — пойдёшь в подвал». Я ничего против не имел. Вели меня по коридорам прямо-таки в подземелье. Редкие камеры и длинная тёмная стена. Камеры молчали, хотя за дверью в некоторых маячил свет. Наконец, меня привели. Это был глубокий подвал. Оконце маячило у потолка. В камере было четыре койки в два этажа, столик, стул. И я один. За дверью после возни с ключами и шагов упала тишина. Только свет в потолке чуть мигал, словно разговаривая со мной. Я прилёг на одну из нижних коек и вдохнул тишину, одиночество, вечер. Потом был ужин, мысли о будущем, о недавнем прошлом.
На другой день с утра вдруг захотелось мне писать. Авторучку отняли — в тюрьме на этапе не положено, а карандаша у меня не было. Не помню, был ли бумаги листок. Не знаю почему, стал я искать карандаш в камере. Конечно, его не было. Но душа моя взмолилась всей силой о карандаше. Господи, как я хотел найти его! Под кроватями, среди тёмных, цепких их пружин, на батарее, под батареей, на окне, на столе, под столом. Господи, как я хотел найти его! Под каждой ножкой стола, стула, в каждой выбоине пола, снова на столе — неужели же нет? Ведь нужно же мне! И потрясён был до глубины сердца, вдруг увидев огрызочек карандашный в проёме между одной из ножек стола и крышкой его. Огрызочек этот маленький, как продолжение пальца, круглый, с толстым грифельком, с голубоватой, обшарпанной, деревянной шкуркой словно ждал меня, моего душевного моления к нему. Я долго хранил его; только в Сибири и потерял нечаянно, в КПЗ, на шмоне очередном. Несколько стихов в пути начирикал я этим карандашиком. Само его явление во многом побудило меня к сочинению этих стихов, потому что в тюрьме мне не писалось, неба не хватало. Так целый следственный год у меня почти ни строки не было. Между тем, пока я радовался карандашику, наступил обед — баланда челябинская хуже мордовской, хотя баланды эти все «хуже». Едва я покончил с ней, меня крикнули на этап, недолго же поблаженствовал я в челябинском подвале. Снова воронок, снова столыпин. На этот раз без разговоров в одиночную клетку. В путь!
Этап до Новосибирска проходил обыкновенно. Снова крики, визги, ругань, мельтешенье солдатни сквозь решётки. Тёплая вода, грубая селёдка, скудный кирпич хлеба. Иногда над мутным невиденьем оконного стекла открывали солдаты верхнюю щель — и мелькали поля, перелески, стога, стада, избушки, изредка люди, а вдалеке за всей этой картинкой — небо, с разбега метнувшееся за леса, за поля, за даль земную. Это были лучшие минуты в этапной жизни, не входившее в программу явление природы замордованному людьми человеку. Не у всех хватало сил на эту радость.
Везли двух «полосатиков», один из них был болен. Он всё время просился в туалет. Но снисхожденья ему не было. Лейтенант показался раз (мордастый ванёк в мундире), получил от полосатиков матерные проклятья и угрозы и пропал. Солдаты либо молчали, либо, пролаяв свою ругань, уходили. Однако вскоре явились все вместе (правда, без мордастого лейтенанта), открыли клетку, в которой на верхних нарах лежали полосатики, и начали стаскивать их вниз. Здорового свалили быстро, а больной боролся, отчаянно ругаясь. «У, распроебанские волки, козлы вонючие, мрази поганые. Лейтенант, курва, где ты, блядский род, я тебя удавлю!» Обоих полосатиков уволокли куда-то по коридору, видно, в этапный карцер. Злоба этой расправы устрашила обычно шумный вагон. Тихо тарабанил и вздрагивал поезд, переваливаясь на своих утиных, железных лапах. В окнах темь мутная, намертво белесая непроглядная стена стекла — специально по-тюремному закрашенная. Чтобы не видел зэк людей и его не видели. И везли, упрятав, а то ведь кто их знает, людей. Из них ведь, не из кого другого, зэки-то и берутся. Что у них, у людей, на уме — про всех никак не узнаешь, нет таких машин марсианских, всё пока по-земному: «Расскажите всё сами, вы поможете следствию, это облегчит вашу участь, суд учтёт ваше чистосердечное раскаяние. А иначе…» И готово дело, техника старая, но верная. Но всех-то, всех не посадишь на этот стульчик, не спросишь этак вот. Так лучше и спрятать схваченного от людских глаз за железы, за мутные стекла. Пусть орёт, вопит, на решётку кидается. Усмирят. Приглушат. И не таких утихомиривали.
Привезли в Новосибирск. Поезд долго стоял на дальних переездах, в туалет не выводили, воды не давали. Вагон роптал. Наконец, подогнали с какого-то чёрного хода. Людей кругом не было. Потом прошли две женщины, из вагона посыпались крики: «Девка, покажи жопу, иди сюда, я тебя в…у» и одновременно: «Бабы, дайте папирос». Хмуро оглядываясь на наш ощеренный щёлками вагон, две эти женщины — средних лет, бедно одетые — торопливо ушли. Тем более что солдаты орали на зэков и задвигали везде окна. Запах махорки, дорожной серой неухоженности и грязного зэковского белья сразу сильнее бросился в нос. Начинало мутить тошной духотой. Вагон орал и бился, требуя открыть щели.
Я тоже кричал охране, грозил жалобами прокурору. Но всё было зря. Только когда прибыли воронки из города, нас стали высаживать. Меня вывели одним из первых. Было уже сумеречно. Как особо опасного, меня отвели в сторону и прикрепили ко мне отдельного солдата. Этот молодой парень в очках, лет девятнадцати, крепко держал меня под руку. Он был типичный студент-первокурсник, высокий, здоровый, как большинство в этом новом поколении. Очки и добродушное полное полудетское лицо придавали ему сходство с Пьером Безуховым. А держал меня он крепко, и автомат за его спиной сработал бы добротно, стоило мне чего-нибудь там затеять. Этот новейший «Пьер Безухов» живо заработал бы себе отпуск, уложив меня (их так поощряют за стрельбу по зэкам, пытающимся бежать). Так и держал меня этот солдат, пока не пришло моё время лезть в воронок. Задвинутый в стакан, я в щёлку стал наблюдать город. Он показался широким, открытым, шумным. Я впервые после лагеря видел улицы, проспекты — вернее, обрывки их, мелькающие сквозь жалюзи. Рядом в стакане кому-то было дурно, он просил солдата пересадить его, но тот — белобрысый, мужланистый — равнодушно бормотнул ему: «А мне по…ть» — и переставил автомат к другому колену. Вскоре путь кончился. Нас завели в тюрьму. Снова кинули в отстойник. Снова параша и голые стены — ходи, стой или сиди на корточках, как любят сидеть бытовики. Прислонил я рюкзак к стене, сел на него, глянул вокруг. Вдруг заскрежетали знакомым скрежетом двери — подсаживают кого-то, видно. Это в жизни зэка волнующий миг — кого же Бог пошлёт? И страшно и любопытно. Дверь отошла, и один за другим в отстойник повалили полосатики — у меня сердце захолонуло. Кавказские бешеные глаза, монгольские косые скулы, русские приземистые плечи — всего человек восемь. Но было всё, как в доброй сказке. Один из полосатиков первым делом рванулся ко мне — как тебя зовут, кто ты? Я сказал. «Очень хорошо, Толик, ничего не бойся, мы политиков уважаем, я — Магомет-чечен, это все наши ребята хорошие». «Что-нибудь везёшь с собой?» Я показал. «Нет, Толик, не возьмём, у тебя самого мало». «Возьмите, ребята, я от души, знаю, каково вам, слышал о ваших зонах». Мне вправду стало светлее вдруг, и потянуло к этим людям. И монгольские скулы (то был бурят) не страшили, и кавказские глаза согревали, а не бросали в дрожь. А ведь полосатикам есть от чего ожесточиться. Их режим — особый. Как во времена инквизиции, они обряжены в шутовскую полосатую форму, только бубенцов не хватает. Жизнь у них тяжелее, чем у всех нас. На строгом режиме одна посылка и две бандероли в год, одно личное свидание и два общих, а у них одна бандероль и одно общее свидание — и всё. Живут они в камерах, на работу их выводят в другие камеры — каторга из каторг. Зато и держат они себя, как в лагерях говорят — «в наглую», начальство кроют в бога-мать. Оно с ними старается не заводиться, к добру не приводит… Между тем, набрав бумаги, мои сотоварищи стали её жечь в раковине туалета, один держал над огнём кружку с чаем. Бумага чернела, дымилась, дым ходил по камере, ел глаза. Видно, он пополз в коридор, дверь отворилась, в отстойник ворвались менты. Кружка куда-то исчезла с моих глаз, полосатики сгрудились в кучу и на крик надзирателей отвечали пущим криком: «Ничего не знаем, иди, начальник, по-хорошему, всё будет тихо, карцер твой на фую видели». И начальники, хоть и погрозив, но сильно сбавив тон, ушли. Появилась на свет кружка, один из полосатиков голой рукой держал её кипящую у себя за спиной. Я поразился силе его духа. Чай пошёл по кругу, я отказался, отговорившись тем, что вообще не пью. Мне было жаль отнимать у ребят глоток драгоценной для них жидкости. Это их ещё больше ко мне расположило. Они смотрели на меня во все глаза, жадно расспрашивали о воле, о делах международных, обо всём, словно вчера ещё я ходил по Ленинграду, а прошло ведь уже 4 года моего лагерного жития. Они же волокли срока большие — кто 10, кто 15, кто 20 лет. Почти все сидели за убийство, один, армянин, имел семь убийств на счету и был помилован по личному слову Брежнева, до которого добралась его старенькая, жившая в горном ауле мать. Когда пришла пора расстаться с полосатиками, мне и впрямь стало грустно. Меня повели в камеру.
![Анатолий Бергер - Времён крутая соль [сборник]](/uploads/posts/books/258678/258678.jpg)
![Анатолий Бергер - Состав преступления [сборник]](/uploads/posts/books/257609/257609.jpg)
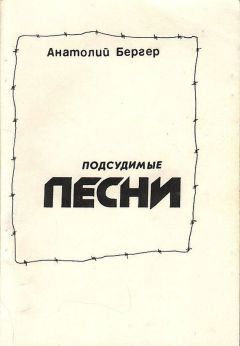
![Анатолий Бергер - Горесть неизреченная [сборник]](/uploads/posts/books/40475/40475.jpg)