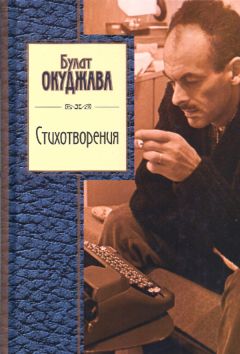Булат Окуджава - Надежды маленький оркестрик
«Да здравствует Великий Понедельник!..»
Да здравствует Великий Понедельник!
Все трудятся, и в доме ни души.
Лишь я один – классический бездельник:
плюй в потолок и думай, и дыши.
Да здравствует и Вторник Величавый,
прощающий наш суетливый быт.
Все носятся за хлебом и за славой,
и счастлив я, что всеми позабыт.
Да здравствует Среда – День Перевальный!
(За мир и тишину чего не дашь?)
Как смирен без гостей мой стол овальный
и как безлюден за окном пейзаж.
Да здравствует Четверг – мое почтенье!
Бумага терпит, и перо бежит,
и старых мыслей новое прочтенье
господствует и голову кружит.
Да здравствует и Пятница!
Но странно
преобразился мир в моем окне:
что с ними? От какого урагана
бежит толпа?
И все ко мне, ко мне…
Неладна будь, Суббота дорогая,
покой мой уносящая в когтях,
меня без сожаленья обрекая
на болтовню о ценах и вождях!
Будь проклято, Святое Воскресенье!
Святой огонь в душе моей затих.
Бесчинствует мой ЖЭК, и нет спасенья
от потных современников моих.
«Заезжий музыкант целуется с трубою…»
Заезжий музыкант целуется с трубою,
пассажи по утрам, так просто, ни о чем…
Он любит не тебя. Опомнись. Бог с тобою.
Прижмись ко мне плечом,
прижмись ко мне плечом.
Живет он третий день в гостинице районной,
где койка у окна – всего лишь по рублю.
И на своей трубе, как чайник, раскаленной,
вздыхает тяжело…
А я тебя люблю.
Ты слушаешь его задумчиво и кротко,
как пенье соловья, как дождь и как прибой.
Его большой трубы простуженная глотка
отчаянно хрипит. (Труба, трубы, трубой…)
Трубач играет туш, трубач потеет в гамме,
трубач хрипит свое и кашляет, хрипя…
Но как портрет судьбы – он весь в оконной раме,
да любит не тебя…
А я люблю тебя.
Дождусь я лучших дней и новый плащ надену,
чтоб пред тобой проплыть, как поздний лист, дрожа…
Не много ль я хочу, всему давая цену?
Не сладко ль я живу, тобой лишь дорожа?
Тебя не соблазнить ни платьями, ни снедью:
заезжий музыкант играет на трубе!
Что мир весь рядом с ней, с ее горячей медью?..
Судьба, судьбы, судьбе, судьбою, о судьбе…
«А мы с тобой, брат, из пехоты…»
А мы с тобой, брат, из пехоты.
А летом лучше, чем зимой.
С войной покончили мы счеты…
Бери шинель —
пошли домой.
Война нас гнула и косила.
Теперь конец и ей самой.
Четыре года мать без сына…
Бери шинель —
пошли домой.
Мы все – войны шальные дети:
и генерал и рядовой.
Опять весна на белом свете…
Бери шинель —
пошли домой.
К золе и пеплу наших улиц
опять, опять, товарищ мой,
скворцы пропавшие вернулись…
Бери шинель —
пошли домой.
А ты с закрытыми очами
спишь под фанерною звездой.
Вставай, вставай, однополчанин,
бери шинель —
пошли домой.
Что я скажу твоим домашним?
Как встану я перед вдовой?
Неужто клясться днем вчерашним?..
Бери шинель —
пошли домой.
«Я вновь повстречался с Надеждой – приятная встреча…»
О. Чухонцеву
Я вновь повстречался с Надеждой – приятная
встреча.
Она проживает все там же – то я был далече.
Все то же на ней из поплина счастливое платье,
все так же горящ ее взор, устремленный в века…
Ты наша сестра, мы твои непутевые братья,
и трудно поверить, что жизнь коротка.
А разве ты нам обещала чертоги златые?
Мы сами себе их рисуем, пока молодые,
мы сами себе сочиняем и песни и судьбы,
и горе тому, кто одернет не вовремя нас…
Ты наша сестра, мы твои торопливые судьи,
нам выпало счастье, да скрылось из глаз.
Когда бы любовь и надежду связать воедино,
какая бы (трудно поверить) возникла картина!
Какие бы нас миновали напрасные муки,
и только прекрасные муки глядели б с чела…
Ты наша сестра. Что ж так долго мы были в разлуке?
Нас юность сводила, да старость свела.
«Стоит задремать немного…»
Стоит задремать немного,
сразу вижу Самого.
Рядом, по ранжиру строго,
собутыльнички его.
Сталин трубочку раскурит —
станут листья опадать.
Сталин бровь свою нахмурит —
трем народам не бывать.
Что ничтожный тот комочек
перед ликом всей страны?
А усы в вине намочит —
все без удержу пьяны.
Вот эпоха всем эпохам!
Это ж надо – день ко дню,
пусть не сразу, пусть по крохам,
обучала нас вранью.
И летал усатый сокол,
целый мир вгоняя в дрожь.
Он народ ценил высоко,
да людей не ставил в грош.
Нет, ребята, вы не правы
в объясненьи прошлых драм,
будто он для нашей славы
нас гонял по лагерям.
С его именем ходили
(это правда) на врага,
но ведь и друг дружку били
(если правда дорога).
А дороги чем мостили?
А за все платили чем?
Слишком быстро все простили,
позабыли между тем…
Нет, ребята, хоть упрямы
демонстрации любви,
но следы минувшей драмы
все равно у нас в крови.
Чем история богата,
тем и весь народ богат…
Нет, вы знаете, ребята,
Сталин очень виноват.
Сентябрь
Чем дальше от Москвы, тем чище дух крестьянства,
тем голубей вода, тем ближе к небесам.
Гармоники лесной завидно постоянство,
и гармониста чуб склоняется к басам.
Мелькают пальцы в ряд, рискованно и споро,
рождается мотив в сентябрьском огне,
и синие глаза как синие озера…
Но бремя тяжких дум на их песчаном дне.
Как сладко в том краю, чужих невзгод не зная.
Чем ближе к небесам – тем ненаглядней твердь.
И плачет о своем гармоника лесная,
и на ее слезу попробуй не ответь.
Дом на Мойке
Меж домом графа Аракчеева и домом Дельвига,
барона,
не просто тротуар исхоженный, а поле – вечно
и огромно,
вся жизнь, как праздник запоздалый, как
музыкант в краю чужом,
отрезок набережной давней, простертой за его
окном.
Меж домом графа Аракчеева и домом Дельвига,
барона,
все уместилось понемногу: его любовь, его корона,
беспомощность – его кормилица, и перевозчика
весло…
О чем, красотка современная, ты вдруг вздохнула
тяжело?
Меж домом графа Аракчеева и домом Дельвига,
барона,
как между Было и Не стало – нерукотворная
черта.
Ее мы топчем упоенно, и преступаем окрыленно,
и кружимся, и кувыркаемся, и не боимся ни черта.
Прогуливаясь вдоль по набережной, предвидеть
ничего нельзя.
Как просто тросточкой помахивать,
раскланиваясь и скользя!
Но род людской в прогулке той не уберегся от урона
меж домом графа Аракчеева и домом Дельвига,
барона.
Пиратская лирическая
В ночь перед бурею на мачте горят святого Эльма
свечки,
отогревают наши души за все минувшие года.
Когда воротимся мы в Портленд, мы будем кротки
как овечки,
да только в Портленд воротиться нам не придется
никогда.
Что ж, если в Портленд нет возврата, пускай несет
нас черный парус,
пусть будет крепок ром ямайский, все остальное
ерунда.
Когда воротимся мы в Портленд, ей-Богу, я во всем
покаюсь.
Да только в Портленд воротиться нам не придется
никогда.
Что ж, если в Портленд нет возврата, пускай купец
помрет со страху,
Ни Бог, ни дьявол не помогут ему спасти свои суда.
Когда воротимся мы в Портленд, клянусь – я сам
взбегу на плаху.
Да только в Портленд воротиться нам не придется
никогда.
Что ж, если в Портленд нет возврата, поделим золото
как братья,
поскольку денежки чужие не достаются без труда.
Когда воротимся мы в Портленд, нас примет родина
в объятья.
Да только в Портленд воротиться не дай нам, Боже,
никогда.
«Впереди идет сержант…»
Впереди идет сержант.
На груди – лиловый бант.
А в глазах его печальных – и надежда и талант.
Он не любит воевать.
Он не хочет убивать.
Он ничьи не может жизни у природы воровать.
А за ним идет солдат
не высок, не бородат.
Он такому командиру и признателен и рад.
У него в дому жена.
Не нужна ему война.
А уж если разобраться, то кому она нужна?
Впрочем, эти двое – сон
в обрамлении погон,
исключение из правил, а не норма, не закон.
Ведь у прочих всё не так:
все – вояки из вояк,
а с вояками такими уцелеть нельзя никак.
«Мы стоим с тобой в обнимку возле Сены…»
В. Некрасову
Мы стоим с тобой в обнимку возле Сены,
как статисты в глубине парижской сцены,
очень скромно, натурально, без прикрас…
Что-то вечное проходит мимо нас.
Расставались мы где надо и не надо —
на вокзалах и в окопах Сталинграда,
на минутку и навеки, и не раз…
Что-то вечное проходит мимо нас.
«Канадский берег под моим крылом…»