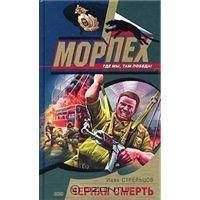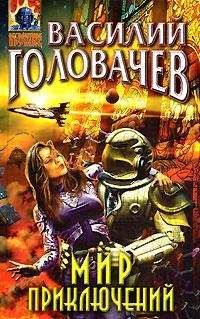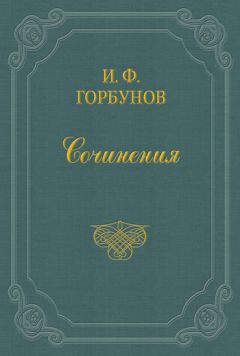Иван Рядченко - Время винограда
Иван Рядченко
Время винограда
Руки
Мне нравятся с детства рабочие руки —
в мозолях, большие, такие, что могут
дома собирать, поднимать виадуки,
себе подчинять металлический грохот.
Они трудового сурового цвета.
На них опирается наша планета.
Их сила — надежна, их вид — откровенен.
Таким поручил революцию
Ленин.
Откройте учебник! Берите лекало!
Работы чураются белые руки.
Им в жизни доступны лишь тяжесть бокала
да ржавое царство безделья и скуки.
Те руки холены, тонки, как бумага,
их в дрожь повергает малейшая ранка.
Таким не доверишь
ни красного флага,
ни сердца,
ни даже простого рубанка!..
Эхо громов неостывших
«Я радуюсь, что выжил на войне…»
Я радуюсь, что выжил на войне.
Но вот врачи повадятся ко мне.
Останутся намеки от волос.
И сердце заскулит, как старый пес.
Я наконец устану верить в лесть
и вдруг пойму, что смерть на свете есть.
И, ясно понимая — жизнь пройдет,
припомню я закрытый другом дот.
Растаял дальних лет кровавый дым.
А друг остался в бронзе молодым.
У ног пчела, качнув бутон цветка,
перелетает из веков в века.
«Когда ты лгал в бою под Сталинградом…»
Когда ты лгал в бою под Сталинградом
бессмертному сержанту своему,
что не задет взорвавшимся снарядом,
и стон скрывал улыбкою в дыму,
когда ты знал: припасов больше нету,
твердил, что сыт, и, сделавши привал,
как целый мир, последнюю галету
товарищу больному отдавал;
когда в глазах у женщины заветной
ты замечал вдруг жалость, а не пыл,
и лихо врал в печали безответной,
что встретил и другую полюбил,—
тогда, сойдя на землю с пьедестала,
швырнув, как тряпку, мантию судьи,
перед тобою правда преклоняла
колени неистертые свои!
22 июня
Покинув бомболюки,
летела смерть к земле,
и вечные разлуки
таились в полумгле.
И где-то на опушке,
бесстыдно сняв чехлы,
уже вздымали пушки
отверстые стволы.
Но чувствуя едва ли,
что будет через миг,
хлеба стеной стояли
на пажитях родных.
Спала, обняв игрушки,
девчонка, как всегда.
И квакали лягушки
спросонья у пруда.
И, начиная дело,
бодра и весела,
над сладкой кашкой пела
рабочая пчела.
Так пусть тебя тревожит
одна простая суть:
никто уже не сможет
те бомбы в люк вернуть…
Посреди неистовой войны
Гром ползет на дымные пригорки.
Там березы горестно черны.
Там стоит девчонка в гимнастерке
посреди неистовой войны.
Воют мины, лают самоходки.
А девчонка замерла, светла.
Возле набекрененной пилотки
вьется оглушенная пчела.
Дыбится земля в снарядном гуле,
и шуршит осколков чехарда.
И откуда догадаться пуле,
что лететь ей надо не туда?
Свистнет пуля над травою белой,
рухнет с неба солнца желтый плод,
и под сердцем вишней переспелой
ягода молчанья расцветет.
И застынут дымные пригорки,
где березы горестно черны,
где лежит девчонка в гимнастерке
посреди неистовой войны.
Продолжая трудное сраженье,
не услышат пушки и войска,
как жужжит пчела недоуменья
у пушисто-нежного виска…
И тогда поднимется пехота —
и с пехотой я, ее солдат,
чтоб пройти сквозь два победных года
через сотни тягостных утрат.
…Посвист пуль, атаки и раненья —
все ушло с полей сражений в сны.
Лишь порой пчела недоуменья
залетает в комнату с войны.
Притча о канарейке
Жил рыжий немец в третьем рейхе.
И, птичку в клетке содержа,
души не чаял в канарейке,
сентиментальная душа.
Он клетку чистил хитрой пеной,
менял водичку, тер настил.
И вдохновенно пленный кенар
ему рулады выводил.
Он спал, как праведник, без храпа,
не сожалея ни о чем,
хотя в те дни служил в гестапо
обыкновенным палачом.
Вернувшись к птичке из разлуки,
шел к умывальнику в носках
и долго, тщательно мыл руки —
большие, в рыжих волосках.
И только после омовенья
он сыпал птичке коноплю,
шепча сквозь слезы умиленья:
— Клюй, птичка, я тебя люблю!
И снился немцу сон нередкий:
стоит он перед клеткой той —
и вся Германия по клетке
порхает птичкой золотой.
Но час пришел скончаться рейху.
И, чуя ненависть и страх,
убил хозяин канарейку
рукою в рыжих волосках.
И, памятуя о гестапо,
смахнул слезу с мясистых щек
и вышел из дому на запад,
но озираясь на восток.
…А мы форсировали берег
реки, последней в той войне,
чтоб всюду можно было верить
слезам с улыбкой наравне.
Полный профиль
Был с солдатом схож я мало,
был я тощим, словно тень.
И владел из арсенала
лишь пилоткой набекрень.
И в рождении солдата
оказалась виновата
не винтовка со штыком,
не граната,
а лопата
с узловатым черенком.
В сорок памятном под Курском,
давним братом соловья,
довелось мне тем искусством
овладеть от «а» до «я».
Тощий, словно Мефистофель,—
ротный часто повторял:
— Рыть окопы в полный профиль!
Ночью будет генерал…
Мы плевали на ладони,
материли ту войну
и в намеченном районе
поднимали целину.
Мы вгрызались в бок планеты,
так стремились в глубь Земли,
что лопаты, как ракеты,
раскаляясь, руки жгли.
Но по мненью генерала,
что являлся в час ночной,
было мелко, было мало…
День кончался — и сначала
мы долбили
шар земной.
На руках росли мозоли
толще танковой брони.
Утром падали мы в зори,
погибающим сродни.
Обретали пальцы черность,
обретали вес слова.
И росла ожесточенность
в каждой клетке существа.
И еще не знали танки —
те, с крестами на боках,—
что они уже останки
смертоносных черепах.
Что трястись им на ухабах —
только смерть искать свою,
что свернет стволы им набок
чье-то мужество в бою.
А пока еще солдаты
тяжко охали во сне.
И железные лопаты
остывали в стороне.
«Закон снабженческий свиреп…»
Закон снабженческий свиреп,
старшины действовали зорко.
По норме были соль и хлеб,
портянки, сахар и махорка.
И только жаль в конце концов,
что все, что было, хлеб и мыло,
на трусов и на храбрецов
уставность поровну делила.
Катился орудийный вал,
сметая толстых, тощих, лысых.
И по утрам не совпадал
под вечер выверенный список.
И выстрел, метивший в бойца,
был словно точка лаконичен.
Что говорить — паек свинца
был на войне неограничен…
Кукла
Вещи могут становиться вещими,
могут превращаться в пустячки.
Подарили куклу взрослой женщине,
и у куклы дрогнули зрачки.
И глаза у куклы стали круглыми,
двум большим горошинам под стать:
— Разве взрослым позволяют с куклами,
словно малым девочкам, играть?!
Погоди — а ежели не мелочно,
отрешась от будничных забот,
стать на миг счастливой, словно девочка,
что в душе у женщины живет?..
У девчонки в детстве куклы не было,
кроме дара взорванных годов —
маленького чудища нелепого,
жгутика из рыженьких бинтов.
Детство шло недетскою дорогою —
то война, то просто недород.
Кукла, вы не будьте слишком строгою
с женщиной, что в руки вас берет.
«Мой вещмешок… Что было в нем?..»