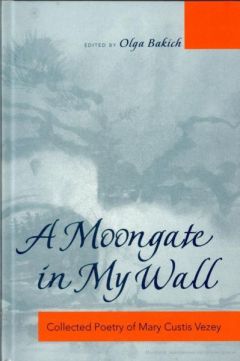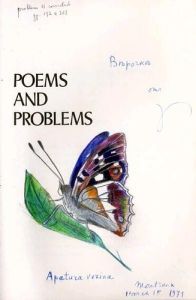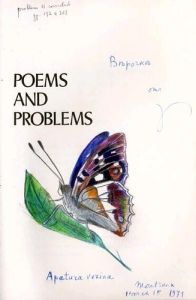Мария Визи - A moon gate in my wall: собрание стихотворений
228. Дача в Куоккала[136]
В конце зеленого забора калитка хлопала,
и были шаги
В. Визи
Горько пылают рябины прощальные кисти
в забытом саду, где бессильно сбиваются в кучи
поржавевшие, желтые, черные, рваные листья,
и тускнеют вверху ко всему равнодушные тучи.
Опадают в канаву иссохшие, рыжие ворохи ягод.
где заборы поломаны вдоль непрохожих, заросших тропинок,
умирают на клумбах левкои, бесцельно отцветшие за год,
и поник можжевельник, как тщетно о чем-то ушедшем молящийся инок.
Не послышится стук так давно отскрипевшей садовой калитки,
только шорох дождя по обшарпленной крыше на даче
будоражит сквозь дрему левкои и маргаритки,
точно кто-то вернувшийся тихо у клумбы вздыхает и плачет.
229. В траве
Мягкая трава
в ложбине, у оврага, и в траву
вкрапились мелкие цветы, едва синея.
Какими
великолепными они бы были,
если б широко в клумбе распустились,
огромные, или в хрустальной вазе!
Но здесь
не нужно этого, когда лежишь
лицом в траву, вдыхая запах легкий;
кругом тебя по стеблям тонких трав
торопятся букашки по делам
микроскопической, но важной жизни,
и с благодарностью такой смиренной
что голубеет тихо над тобою;
что ты — трава, букашка, небо, солнце,
комок земли у корня трав… О, радость
непостижимая! Восторг предельный —
быть только малой частью в этом целом,
как синий цвет, потерянный в траве…
230. Ночные поезда[137]
… Largos trenes quo se marchan
hacia ninguna parte.
Marco Aguilar
Течет под мост и вдаль бежит вода.
Ночные пролетают поезда
в края, которых нет нигде на карте,
из темноты — в слепое никуда.
И те, что в них умчались, не найдут
той станции, где отдых и уют,
где тает снег и греет солнце в марте,
и голубым подснежники цветут.
Протяжно рельсы гулкие звенят,
как будто их назад вернуть хотят…
Но над равниной стелятся туманы,
и мутно светят звезды и молчат.
Далеко за рекой темнеет лес,
и золоченый месяца обрез,
тускнея, пропадет за тучей рваной.
И поезд не вернется, что исчез.
231. Будет дождь[138]
Подожди немного: будет дождь,
чаши листьев переполнит влага,
прежняя вернется лесу мощь,
и ручей забьет на дне оврага;
из-за камня робко выйдет уж,
громко птицы запоют спросонок,
к омуту, забыв жару и сушь,
побежит купаться медвежонок.
Только нужно верить, нужно ж дать —
засуха не может быть навеки —
ведь должна же вера в благодать
сохраниться как-то в человеке!
232. Лестница
Есть лестницы — по ним взойдешь нескоро,
— как в колокольне бернского собора,
которую я видела воочью, —
такие лестницы мне снятся ночью.
Поднимешь взгляд — и все в глазах мутится:
там, где-то, небо в облаках клубится,
и верх ступеней спрятан облаками —
ты лезешь вверх и держишься руками,
но надо лезть.
Как будто ты была на дне колодца
и вот, должна за жизнь свою бороться.
Все дальше дно — но все конца не видно,
и делается гибель очевидна —
так круто поднимаются ступени,
сорваться так легко — и нет спасенья,
не вырваться из этого кошмара
и не понять, за что такая кара,
как чья-то месть…
Но вдруг — твоя рука коснулась края,
блеснуло солнце, весело играя,
и лестница кромешная исчезла,
как будто бы по мановенью жезла!
Когда чуть-чуть ты не лишилась веры,
кошмар пропал, попрятались химеры,
и плачешь ты, поняв в оцепененьи.
что есть цветы, трава и птичье пенье —
и солнце есть!
233. Этюд[139]
Ю. Крузенштерн
С океана
надвигался туман, заволакивал небо, белесый,
лишь по дальнему краю блестел горизонта карниз.
Серебрились у взморья песчаные узкие косы,
и навстречу прибою насупленный горбился мыс.
Пеликаны,
поднимая крыло, точно острые топсели шхуны,
пролетали в кильватер, четыре, беззвучно, легко,
и почти задевая курчавые гребни бурунов,
как кочующий парус, скрывались за мыс, далеко.
А у камня,
на песке, где волна вырезает узоры по краю,
где богатства глубин оставляет небрежно вода,
розовея во мгле и бессильно лучи простирая,
потерявшая блеск, умирала морская звезда.
234. О луне[140]
М. Маринич
Если ты уедешь на луну,
что же, я тебя не упрекну:
дальние прекрасны берега,
и земля не так уж дорога.
Голубые камни на луне —
ты таких не знаешь и во сне,
и серебряный, холодный свет —
на земле такого света нет;
и, быть может, даже там живут
девушки, невиданные тут,
у которых души, как хрусталь,
чьи глаза не трогает печаль…
Но едва ли там цветет сирень
в тихий, ласковый весенний день,
и едва ли пахнут так поля,
как твоя — привычная — земля.
и в лесу, уж если есть такой
где-нибудь над высохшей рекой,
ты найдешь ли тропку на луне,
чтобы привела тебя ко мне?
235. Шквал
В сумерки ветер с моря вставал.
Шквал набежал,
трепал и рвал
деревья, как перья.
Ощерясь, звери
забились в норы,
в окнах людских спустились шторы,
смолкли случайные разговоры,
двери
закрылись на все запоры…
Чья-то рука,
бела, бледна
свечку зажгла
в темноте угла,
чтоб сберегла от всякого зла,
чтоб не вошла
в душу тоска,
чтобы ночь была
не так страшна.
236. Старуха
Колокола звонили долгим звоном,
тяжелым гулом заполняли небо,
по улицам текли и доплывали
до всех глухих, пустынных переулков;
тревожили и звали и будили,
и сонные кругом вставали люди,
и чья-то совесть, трудно пробуждаясь,
о чем-то вспоминая, тосковала.
И люди шли, встречались, говорили
на каменных ступенях, перетертых
столетьями идущего народа,
на этот гул зовущий собираясь
от мраморных дворцов и от подвалов,
по улицам текли и доплывали
до всех глухих, пустынных переулков;
тревожили и звали и будили,
и сонные кругом вставали люди,
и чья-то совесть, трудно пробуждаясь,
о чем-то вспоминая, тосковала.
И люди шли, встречались, говорили
на каменных ступенях, перетертых
столетьями идущего народа,
на этот гул зовущий собираясь
от мраморных дворцов и от подвалов.
А на одном забытом перекрестке,
придавленная этим медным звоном,
в большом платке, в убогом, черном платье,
согнулась безымянная старуха
и долго, молча, горько, безутешно
под этим небом плакала о чем-то.
237. Борису Пастернаку
Никогда не жила в Подмосковье,
в Переделкине не была,
но вино за Ваше здоровье —
и в память Вашу — пила.
Немало ночей бездонных —
безлунных, бессонных часов
над книжкой золотозвонных
сидела — Ваших — стихов.
И горя мне было много,
что, крутясь по лицу земли,
моя и Ваша дорога
к перекрестку не привели.
Но ревниво храню на полке
единственное письмо:
оно перевязано шелковой
малиновою тесьмой.
238. «Как черна душа моя сегодня!..»[141]